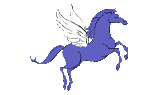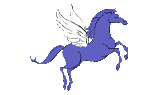2015
ВКУС ДЕТСТВА
Повесть по мотивам воспоминаний о детстве
ГЛАВА I
КОНФЕТА
Первое, что я запомнил из раннего детства, это свою улицу в посёлке, пролегающую вдоль реки Самары. Одноэтажные домики с палисадниками у фасадов, пыльная дорога летом и привычная грязь с лужами в непогоду.
Когда произошло это событие, я точно не помню, что-то ближе к осени, а мне было от роду года четыре, но врезался в сознание этот день на всю жизнь, так потрясший всё моё детское существо.
Был погожий денёк, я гулял на улице, рядом мама белила в палисаднике фасад дома, смотрящий на дорогу одним окошечком, которое поблёскивало на солнце радужными зайчиками.
Я смотрел, как мама ловко управляется с побелкой и мне захотелось, чтобы она мне доверила щётку. Мама нехотя отвечала, что мне этим ещё рано заниматься, а я продолжал своё. Рассердившись, она сказала, чтобы я занялся чем-нибудь другим, а не то загонит меня домой.
И тут я увидел напротив нашего дома соседского мальчишку, старше меня года на два, также слонявшегося без дела у своего двора. И он заметил меня, махнул рукой, подзывая к себе. Сосед предложил: «Хочешь конфету?»
В послевоенное время моего детства, да ещё в селе, мы не были избалованы подобным лакомством, не помню, ел ли я конфеты до этого вообще...
Соседский мальчишка сбегал домой и, выйдя за ворота, вручил мне нечто красивое и красное, на зеленоватой палочке, изогнутое и утончённое на конце, сказав, что это надо откусить и пожевать, тогда будет очень сладко и приятно. Не ожидавший подвоха, просто ещё веривший всему, что говорят, я так и сделал, тут же ощутив усиливающееся жжение во рту. Потекли слёзы, стало полыхать адским огнём, от боли я заревел во весь голос. Соседа это почему-то развеселило, он стал хохотать, показывая на меня пальцем, приплясывая и приговаривая: «Обманули дурака на четыре кулака…»
Через минуту рядом оказалась мама и, увидев откусанный стручок перца в руке, быстро отнесла меня домой. Стала промывать водой горящий нестерпимо рот. Дальнейшее я не помню, но полученный урок коварства запомнился навсегда.
КРЕЩЕНИЕ
Ещё из того раннего периода в моей памяти запечатлелась пара других важных для меня событий. Вот одно из них.
Было это в пять-шесть лет, мы ехали на телеге всей семьёй по степи моего детства. Оренбургский пейзаж довольно однообра¬зен: ранней весной и в начале лета здесь всё цветёт и буйствует. Позже солнце на открытом пространстве выжигает траву до обугленного состояния, особенно по-над железной дорогой Оренбург-Самара (Куйбышев). Асфальтовая трасса появилась здесь гораздо позже, а тогда мы тряслись по наезженной колее из краснова¬той суглинистой почвы.
Не знаю почему, но эта родная земля до сих пор тянет к себе неодолимой силой. Без всякого преувеличения скажу, когда приезжаю на родину, словно крылья вырастают, и хочется кричать от переполняющего внутри необъяснимого восторга. Так было и в последнее моё посещение в двухтысячном году…
Путь наш лежал в село, что находится на расстоянии дневного пути от нашего посёлка на телеге. Мы выехали очень рано, а прибыли на место вечером. В этом селе на всю округу была дна церковь.
Отец может и был верующим, но я никогда не замечал с его стороны религиозного рвения, не помню случая, чтобы он хоть раз перекрестился при мне. Мамины вечерние молитвы мне запомнились. Образ коптящей лампадки и истовые мамины поклоны в переднем углу нашего дома запечатле-лись в памяти, когда мы жили уже в другом месте, а я тогда был уже взрослее.
Видимо, по настоянию мамы отец и решился на такое трудное по тем временам путешествие с двумя малыми детьми по летней жаре. Мы долго тряслись по разбитой просёлочной дороге, я смотрел на степь, небо без единого облачка, сливающийся со степью горизонт, пели где-то в зените жаворонки, порхали бабочки и стрекозы. Спрыгивая с телеги, я ловил кузнечиков и гонялся за бабочками.
Кое-что помнится, а что-то теперь приходится домысливать, потому что невозможно восстановить в памяти все события более чем полувековой давности. Помню момент прибытия в село, где была церковь и отца, мечущегося в поисках ночлега, поскольку уже темнело. Обряд крещения проводился обычно с утра, поэтому мы разместились в каком-то большом сарае. В нём было много людей, лежащих вповалку на земле: кто на соломе, кто на привезённых подстилках. Отец постелил сено на свободном местечке, я лежал на душистой сухой траве и видел в незакрытые ворота яркое звёздное небо, чувствовал запах остывающего знойного дня и… на этом воспоминания тают. Как крестили, как возвращались, всё это кануло в небытие...
РОЖДЕСТВО
В то же годы запомнилось, как мы ходили с ребятами нашей улицы славить на Рождество по домам. Под предводитель¬ством старших мы перебегали от двора ко двору. Помню, как я переживал, что не знаю слов рождественской песни. Но мне сказали, что это неважно, главное, чтобы я открывал рот, делая вид, что пою. Мы стучались в очередной дом, и везде нас пускали на порог радушные хозяева. Ребята постарше бодро затягивали: «Рождество Твоя, Христе Боже наш…», малышня и я в том числе, топтались в общей толпе и подтягивали жалостливо.
После посещения нескольких дворов наше пение стало уверен¬ней, и гостинцы посыпались в наши карманы. Какие тогда были гостинцы, я слабо теперь помню, кажется, это были кусочки колотого сахара, пирожки с рисом или капустой, иногда − деревенская краюха хлеба, мелкие монеты, редко конфеты. Всё равно, радости и счастья от этого было не меньше, чем у нынешней детворы, которую теперь задаривают дорогущими современными подарками.
Это было для нас настоящим праздником. У меня на этой улице была крёстная мать, очень хорошая женщина. То, что она хорошая, я понял гораздо позже, когда мы вернулись с Дальнего востока после смерти мамы. Она постоянно звала к себе, но я почему-то упорно не шёл, всё откладывал, стеснялся. После детского дома я встретил её один раз, снова она звала меня, но я опять не пошёл, думая, что ещё успею. Так и не сходил. Потом, когда я уехал навсегда, чувство вины долго преследовало меня за это малодушие.
Теперь я понимаю, что останавливало меня. Просто нас воспиты¬вали тогда в духе атеизма в советской школе, и я боялся и не понимал значение крёстной матери. Если бы я решился придти, она многое рассказала бы о моей маме, о том времени, о котором уже ничего почти не помню. Как я теперь жалею, что отрезал себе этот путь. Часто по неопытности мы разрушаем за собой мосты, а ведь назад ходу нет…
ЭХ, САНОЧКИ…
Разница в возрасте у отца с матерью была более чем в четверть века. Отцу было шестьдесят четыре, а матери тридцать восемь, когда появился я, через четыре года братишка Славик.
У родителей были до нас свои истории: семьи, дети. Поэтому наши братья по матери и братья по отцу, сестра, племянники были намного старше нас с братом.
Отцовы дети и внуки жили, думаю, и теперь многие живут на Дальнем востоке. Но я ничего о них не знаю и связи мы не поддерживаем. Вернее, они не пожелали этого, считая нас вроде незаконнорожденных.
С нами жили старшие братья по матери – Виктор и Николай. Мама едва управлялась по дому, чтобы накормить ораву из пяти мужиков разного возраста, кажется, она ещё успевала где-то подрабатывать. Старшим братьям приходилось присматривать за мной до появления младшего брата Славика. Так я до сих пор его зову. На самом деле, по метрикам он Владислав, а не Вячеслав. Этот курьёз образовался по малограмотности моих родителей, впрочем, корень-то в именах один.
Перед армией, живя в Сибири, я как-то навестил родные места. Заехал к Виктору, брату по матери. Наша встреча была недолгой, как и следующая – последняя... Мы со Славиком всегда относились к старшим братьям, как к родным, но разница в возрасте, видимо, сказывалась. Это отчуждение, недопонимание так и не было преодолено. Если бы мы жили рядом, тогда, может, было бы всё иначе…
При встрече я расспрашивал Виктора о родителях, о нашем детстве, но общение было недолгим. Последнее время, так сложилось, мне стали ближе родственники жены, потому что в отпуск ездили к ним. Моих родственников навещали проездом…
Виктор, в разговоре о прошедших днях нашего совместного проживания, рассказал один запомнившийся сюжет из моего раннего детства.
Ещё до рождения Славика сидеть со мной двум старшим братьям целый день дома было не интересно. Им хотелось на улицу, на реку, к друзьям, но с мамой не поспоришь, потому братья вынуждены были выполнять её распоряжения.
Однажды, в зимний солнечный денёк, когда родителей не было, братья решили отправиться на горку, и взять меня с собой. (Если сильно хочется, разве остановит запрет?) И вот я сижу на самодельных санках, по дороге к речному склону…
Улица, на которой мы жили, была крайней у реки на возвышенном левому берегу. Когда-то в этом месте Самара была гораздо шире и полноводнее, но со временем обмелела, а от края воды до прежнего берега, сбегавшего пологой кручей, образовалась приличная коса, зараставшая летом травой, зимой служившая полигоном для ребячьих игр.
Санки весело катились, братья о чём-то оживлённо разговаривали, забыв обо мне. Вдруг старший брат Николай сообразил, что его руке слишком легко. Обернувшись, удивился: сани ехали полозьями вверх без пассажира…
Он понял, что я «потерялся по» дороге и крикнул Витьку: «Давай за мной!» За поворотом дороги у обочины я благополучно валялся, опрокинутый лицом в снег и ворочался в полушубке.
Лихо подкатив, Коля развернул рядом сани и водрузил меня на место. Они продолжили путь, а чтобы я не потерялся, привязали к спинке саней верёвкой. Когда до горки оставалось совсем немного, Коля вновь почувствовал, что с санями что-то неладно: они слишком тяжело катились. Оглянувшись, увидел перевёрнутые сани вбок полозьями, которые ехали привязанные ко мне.
Мне это наверняка не нравилось: в полушубок набилось полно снега, а так же в рот и за шиворот, и потому, как только я смог набрать в лёгкие воздуха, тут же возвестил об этом на всю округу громким криком.
Братья, посовещавшись, решили разделиться, один потащил санки за верёвку, другой толкал сзади. Вот и горка. Здесь давно уже кипели мальчишеские страсти. Ребятня с азартом атаковала склон, носясь сверху вниз на подручных средствах – жестянках, фанерках, досках. Меня братья по очереди сажали сзади себя и скатывались вниз, а ветер и снег летели навстречу…
Виктор уверял, что я визжал от восторга во время спуска. Так это или нет, я, к сожалению, не помню. Да это и неважно…
* * *
Подростком по приезде с Дальнего востока я бегал к реке, где жил мой дружок Костик, сын мельника, дом их стоял на самом берегу. Мы купались, ловили рыбу. По противоположному берегу реки белой стайкой спускалась к воде берёзовая роща.
Где-то под сердцем весенним восторгом живёт щемящее чувство, словно видение - пронизанные светом ряды белых тоненьких стволов, раскачивающиеся зелёные ветви и полоскающиеся на свежем ветерке берёзовые бруньки. Сквозь солнечные блики вижу сливающиеся стволы в белую стенку, и мелькающие строчные тёмные полоски поперёк тонких стволов…
К повзрослевшим берёзам, то есть к заречной роще, после детского дома ходил я юношей с друзьями на маёвки. Старшее поколение знает, был такой советский праздник − 1 мая, День солидарности трудящихся всего мира. Мы отмечали его всем посёлком, собираясь на пикник, приходили семьями − мал и стар шли в заречье на поляну в ту берёзовую рощу.
После митинга люди, разделившись группами, в облюбованных местах накрывали «скатерти-самобранки» с закусками и горячительным. Ели и пили, а потом пели, объединяясь в более тесные компании, устраивая танцы и игры.
Как-то в один год к нам приехал московский театр со спектаклем о вожде мирового пролетариата. Я впервые тогда увидел «живого» Ленина, он был сильно нагримирован, вблизи − с явными следами то ли красной краски, то ли клея на лице и на лысине. Спектакль давали на скоро сколоченной деревянной сцене, на левой стороне реки посёлка, под кручей. Весёлое было время, интересное.
* * *
Напротив дома Виктора, где я жил, росла небольшая рощица из клёнов и ясеней. Я любил забираться к верхушкам деревьев и смотреть вдаль за убегающий горизонт. Повиснув, и пружиня, словно Маугли, перескакивал с одного дерева на другое.
Как-то заметил, что соседская девчонка с любопытством наблюдает за моими перелётами, и меня это словно окрылило. Я решил показать своё мастерство, как в диких джунглях, стал перелетать с дерева на дерево, пружинящих словно шест прыгуна, и толкающих моё упругое тело.
Вдруг верхушка клёна обломилась, и я камнем полетел с пятиметровой высоты, ломая на ходу ветки, но тем самым замедлив падение.
Девчонка со страху убежала. А мне это падение не прошло даром, тело во многих местах глубоко поцарапалось, кожа от боли саднила.
Но больше всего я боялся идти домой, не хотелось объясняться с женой брата, наверняка она стала бы меня ругать за неосторожность.
Подошёл соседский мальчишка. Он был из тех, в ком через край бьёт жизненная энергия, кто знает всё на свете и у кого есть советы на все случаи жизни. Предложил одно «верное» средство от царапин, перейдя почему-то на шепот: «Знаешь, Сань, я слышал, что раны быстро заживают, если встать пораньше утром и окунуться в холодную воду − как рукой снимет! Хочешь, завтра утром мы пойдём с тобой на реку, ты окунёшься, а я на всякий случай покараулю».
От кого он собирался меня караулить, я не понял, но согласился, надеясь на обещанное облегчение. Дело было уже к ночи, сумерки нависли над посёлком и рекой. Я с трудом поднялся и поплёлся в дом, стараясь не попасться брату и его жене на глаза.
Всю ночь я ворочался от саднящей боли. Утром кое-как оделся и выскользнул незамеченным на улицу. Как ни странно, сосед уже ждал меня, прячась за деревьями рощицы.
− Ну чего ты спишь, сейчас самое целебное время, пошли!»
Река была в сотне метров, мы быстро спустились к воде, я разделся и от утренней свежести моя кожа сделалась «гусиной», мне не хотелось окунаться в холодную воду, но я с ходу прыгнул... и тут же выскочил, как ошпаренный.
− Ещё окунись, ещё, − кричал сосед.
Присев разок, другой, не в силах больше терпеть, я выскочил на берег.
− Что же ты, надо ещё, не унимался мой «целитель».
− Хватит, − стуча зубами, сказал я, − и стал натягивать трусы.
− Ничего, успокаивал он, скоро всё как на собаке заживёт!
Не знаю, как насчёт собаки, кожу стянуло так, что больно было шевельнуться.
Ранки долго заживали, но всё когда-то кончается…
Теперь, с высоты прожитых лет, я вспоминаю это с внутренней улыбкой, и думаю о том, что конечно это была очередная «разводиловка», а может, сосед действительно верил в своё чудодейственное средство. Сколько в жизни попадается нам подобных доброхотов, и мы всё время живём под чью-то диктовку. На мой взгляд, человечество делится на три категории: одни кукловодят, другие рады лоб расшибить, угождая первым, а третьи играют роль независимых от тех и от других, но в человеческом сообществе редко бывает полной независимости от кого бы то ни было...
Вспоминая детство, я благодарен Богу, что ангел мой не оставлял меня в самые трудные минуты, хоть ему со мной и нелегко было…
СО СРЕДНЕГО УРАЛА
НА САМЫЙ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Мои предки родом с Кубани. Дед, по словам отца, был конезаводчиком.
Расскажу один из немногих эпизодов из жизни отца − Власа Николаевича, что мне удалось выудить у него, будучи постарше. На его голове обращал на себя внимание глубокий синий шрам, и как только я решился спросить батю об этом, он просто сказал, что это память от его отца, оставленная молотком…
Было это в позапрошлом, девятнадцатом веке, поскольку отец (со слов Виктора) с 1884 года рождения.
Отец моего отца надумал ремонтировать входную с улицы дверь, приказав сыну придерживать её, закрепляя к косяку. Власу было в то время лет семь. Встав на стул, он придерживал тяжёлую дверь, снизу подпёртую кирпичом. От внезапно налетевшего ветра дверь упала и ушибла моего деда.
В сердцах старый казачура, не раздумывая, запустил молоток в «непутёвого» сына. Молоток, как томагавк индейца, описав дугу, раскроил Власу переднюю часть черепа выше лба…
Что тут сказать? Жестоко? − Да… Можно возмущаться, как это сделал бы любой нормальный человек, ужаснувшись подобным приступом бешенства и диким нравом моего предка. Я тоже не удивлён, шокирован поступком своего деда…
Человеческая природа не меняется. В наше время также есть примеры жестокого обращения с родными детьми, мы знаем случаи, когда современные родители калечат своих чад, выбрасывают их на помойку, убивают, насилуют… Все это знают, не стану морализировать, но нравы с тех времён вряд ли улучшились …
Как выжил мой отец? Бог и, видимо, заботливый уход матери, моей бабушки (о которой я не знаю ровным счётом ничего, даже имени) всё-таки уберегли моего будущего отца. Не судьба была ему погибнуть от молотка, мало того, он прожил долгую, хотя и трудную жизнь, скончавшись на девяносто втором году жизни. Тут и подумаешь: насколько всё относительно в этом мире. Или всё предопределено?
Это один из немногих моментов, что я знаю об отце, про другое я по малолетству не спрашивал, да и он не был словоохотливым...
Гораздо позже мне захотелось узнать, как с Кубани занесла его судьба на Дальний восток? Под Благовещенском в селе с простым русским названием Михайловка он жил со своей первой семьёй. Из этих краёв он, репрессированный, был сослан в Оренбургскую область.
Снова недоумение: как такое возможно – с окраин России сослали почти в центр! Главной задачей, видимо, было – сослать, оторвать от семьи, дать почувствовать человеку всю его беспомощность и мощь большой карательной системы…
В нашей стране многое есть такого, что покруче Шекспировских трагедий. Можно взять любой кусок истории России – сплошные метаморфозы, в которых блуждали, пропадали или наоборот − выживали чудным образом миллионы соотечественников. Думаю, нет нужды напоминать о революциях, войнах, репрессиях и бесконечной чехарде событий даже за последние десятки лет нашей многострадальной Отчизны…
Но благодаря такому зигзагу судьбы, отец встретил мою мать, появились мы с младшим братом. Отец, живя с нами, вынужден был разрываться на два фронта, так я думаю. В итоге оставил нас и уехал на Дальний Восток, пообещав матери, что непременно вызовет её, как только устроится на новом-старом месте… А может он действительно ехал туда с целью обустроиться, потому что знакомы были места, климат нравился, − можно только гадать.
Я был маленьким, не помню переживаний мамы, но она осталась с четырьмя детьми одна.
К счастью, отец оказался человеком слова, а может прежняя семья его не приняла, но вот настал день, и мы отправились почти через всю страну в невиданные места. Мама наверняка боялась ехать в неизвестность, доверяясь лишь отцовскому письму. Бросать худой, но свой домишко и тащиться к чёрту на кулички…
Старший сын Николай от первого мужа Прокофия Забелина служил в армии. Служил он в Белоруссии, отслужив, привёз с тех краёв жену Валентину, обзавёлся семьёй, у них родился сын Коля и дочка Валя. Всю жизнь Николай Прокофьевич проработал в районной больнице на «скорой помощи» водителем. Виктор задержался почему-то в Переволоцке, но вскорости приехал к нам, работал года полтора пастухом, дожидаясь обещанной колхозной машины, но не дождался, его призвали в армию. Через год у него нашли какую-то опухоль в голове, оперировали и комиссовали по болезни вчистую. Уехал к невесте Галине на родину. Он также стал шофёром-профессионалом. Оба брата крутили баранку до самой пенсии.
* * *
Вспомнилось моё путешествие на поезде по бескрайним просторам необъятной родины. Путь на Дальний восток пролегал мимо лесистых Уральских гор, через какие-то населённые пункты, дремучую тайгу. От запаха хвои и паровозного дыма у меня чуть кружилась голова, иногда от удивления, потому что приходилось задирать её, высматривая в поднебесье верхушки сопок, на которых стояли величественные ели и сосны, пихты и кедры. Этой дорогой позже я ездил не раз, поэтому более поздние впечатления наслоились на ранние. Я помню, что видел из окошка мчащегося поезда ясную гладь Байкальского озера, мрачные тоннели, въезжая в которые, вагон вдруг накрывала полная темнота, включался паровозный гудок и резко менялся звук шедшего состава, а я на мгновение пригибал голову от страха. Казалось, что сейчас со всего маху стукнусь об арку тоннеля, снесёт и крышу вагона и мою «крышу». Через несколько минут поезд выскакивал из гудящей темени и, весело петляя на поворотах в долгом туннеле и среди вековых сосен, продолжал свой фантастический путь. Куда ни глянь – бесконечная тайга, полноводные реки, какие-то города и деревянные домишки в таёжных посёлках, снова тайга и – озеро Байкал. По самому берегу ползёт наш паровозик, то удаляясь, то приближаясь к кромке, плещущейся о камни воды. Многие описывали эти живописные места, гораздо красочней и полнее, а у меня сохранилась маленькая, но своя картинка и она мне дорога…
Пересекали мы и великие сибирские реки Тобол, Иртыш, Обь, Енисей, Ангару... За Байкалом тайга сменялась равнинами и снова переходила в тайгу, это ближе к Чите.
Когда умерла мама, мне исполнилось десять лет, мы с отцом и братом возвращались обратно в Оренбургскую область, позже я той же дорогой десять суток ехал на армейскую службу в эшелоне от Кемерово до Владивостока. Эшелон шёлл вне графика, и наши вагоны часто загоняли в тупик, выжидая окно, затем состав летел на всех парах до очередной долгой остановки.
Приезд в Благовещенск мне хорошо запомнился. Мать переживала: встретит ли нас отец? Вижу как сейчас: большая площадь у вокзала и на ней круглое, бетонное сооружение − фонтан без воды. С баулами стоим возле него, отца почему-то нет. Мама мечется, не знает что делать…
Но вот отец появляется. Оказывается, задержался паром с другого берега Зеи, потому и он запоздал к нашему поезду.
Мы переправились через реку Зею, впадающую в Амур. На слиянии этих рек стоит город Благовещенск. Первый раз я плыл по большой воде на пароме, всё было ново и необычно.
Далее смутно помню, что мы долго тряслись на бричке к пункту нашего назначения. Теперь на современной карте я не смог отыскать этот населённый пункт, может, он слишком мелок и его не приняли в расчёт картографы, а может время стёрло его с лица земли…
В Интернете я нашёл посёлок с похожим названием - Грибское, но не уверен, что это тот посёлок, мы называли то место, где жили Грипск.
Здесь пришлось прожить нам четыре года, но эта недолгая жизнь оставила в моей душе неизгладимый след. В этой дальневосточной земле прошла часть моего детства, здесь осталась навсегда лежать мама, позже и отец…
СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
Отец, с его профессией плотника, в тех местах, где мы устроились, был в цене как специалист, потому нам сразу дали комнату в колхозном бараке. Маму приняли в школу техничкой. Осенью пошёл и я туда же, где учились дети нашего посёлка − с первого по четвёртый, в одном классе из-за малокомплектности.
За партами сидели мы – разновозрастные ученики, и учительница одна на всех. Мне запомнился первый урок, когда она попросила первоклассников взять карандаши в руки. Я взял в левую, учительница, подойдя, сказала: «Ученик, как тебя зовут?» Я ответил: «Шурка», − так звал меня отец. Она поправила: «Теперь тебя все будут называть Сашей. И ты, Саша, будешь писать только правой рукой. Она сама переложила карандаш в правую руку, а мне почему-то стало стыдно, − все смотрели на меня и, казалось, ухмылялись. С того дня так и повелось − я пишу только правой.
Я в детстве был подвижным и непосредственным, потому во время урока мог громко засмеяться, встать и начать выяснять с соседом по парте отношения.
Осмелев, я стал вести себя словно играя некую роль, увлекаясь и кому-то подражая. Ко мне приклеилась кличка «артист». Порой я набирался наглости и, работая на публику, передразнивал учительницу за её спиной, строя рожицы, изображая её мимику, жестикулируя, как она. Ребята взрывались смехом, она при этом резко оборачивалась, и в наказание ставила меня в угол. Иногда жаловалась матери, поскольку виделась с ней каждый день.
Не помню ни одного случая, чтобы мама хотя бы раз повысила на меня голос. Она устало совестила меня, отчего становилось ужасно не по себе, слёзы наворачивались на глаза, я прижимался головой к её животу, и она же успокаивала меня. Проходило какое-то время, я забывал свои слёзы, и опять выкидывал какой-нибудь номер.
В классе учились не более пятнадцати ребят, и учительнице приходилось каждого опрашивать, задавать отдельное задание.
Учился я не очень прилежно, некому было контролировать, родители были малограмотными. За моё неприлежание краснела мама, но отцу о моём поведении она не говорила, а может ему просто было не до меня. Я также не припомню случая, чтобы она жаловалась на трудности при мне на здоровье. Тянула свою лямку, как большинство русских женщин в те нелёгкие годы.
Наверно, я быстро взрослел, потому что где-то к третьему классу стал понимать, что подвожу маму. Я очень её любил и жалел, видя, как она буквально выбивается из сил дома и на работе.
Отец не вмешивался в процесс воспитания, но однажды всё же «угостил» меня широким ремнём за одну не школьную провинность.
В свободное время, как и все мальчишки той поры, мы бегали, играли, находили себе сами занятия. Кто-то из сельских ребят подал идею – полакомиться мёдом из колхозных ульев, приготовленных к зимовке в специальной яме во дворе колхозного тока. Внутрь ямы рядами установлены были улья с пчёлами, накрытые сверху слоем сена.
Почему там не было сторожа, я не знаю, может, его вовсе не ставили – от кого охранять в глухом дальневосточном селе? Пчёлы зимовали так и в другие годы, и вряд ли руководство колхоза предполагало, что кто-то из сельчан решится пойти на воровство или разор, который собрались учинить мы.
Автор идеи привёл нас к яме и показал, где разрыть сено. Он принёс монтировку и сам вскрыл улей, потом другой. Пчёлы были сонные, мы без боязни брали рамки, стряхивали пчёл и ели душистое лакомство. Наевшись, стали дурачиться, ломая рамки с воском и мёдом, мазали друг друга. Мне надели рамку на голову, измазав мёдом с ног до головы.
Набесившись, разошлись по домам. При свете лампочки я увидел в зеркале своё отражение и ужаснулся: волосы слиплись, лицо и одежда перепачканы, я понял, что за это может перепасть от отца.
Отмыть липкий мёд мне никак не удавалось. И тут на мою беду послышался шум в сенях – действительно пришёл с работы отец. Испугавшись, я залез под полати русской печки, где родители держали всякий хлам по моим представлениям: ухваты для чугунков, веники, тряпки, валенки, старые вещи. На полатях печи по ночам спали мы с братом, играли долгими зимними вечерами, проводя время.
Отец с порога сразу почему-то спросил: «Где Шурка?»
Славик бесхитростно указал на моё укромное местечко. Отец, заглянув под полати, вытащил меня на свет божий. Пред ним предстал я, − нечто, от чего он, кажется, выругался матом, чего я раньше никогда от него не слыхивал. Молча, вытащил широкий ремень из брюк, взял меня, как котёнка за шиворот и, засунув голову между ног, стал охаживать, приговаривая: «Не шкодь, как паршивый кот, не шкодь, как паршивый кот!»
Я, конечно, был виноват, но вину свою не понимал, в виду отсутствия должного воспитания и только пример старших, беседы, которые могли бы быть хоть изредка о том, что хорошо, что плохо, могли корректировать меня в правильном направлении. Я видел, что родителям нелегко и сам по мере сил помогал им, но этого было, видимо недостаточно.
Это был первый серьёзный отцовский урок в моей жизни. Бил меня он ещё один только раз, но об этом как-нибудь расскажу в другой раз.
ПЕСНИ, ИГРУШКИ И КАМЕНЬ
В редкие свободные часы вечерком после ужина отец преображался, что-то делая по дому, мастерил для нас с братом игрушки, мурлыкал под нос душевные украинские песни.
Я пытался подпевать отцу, это ему нравилось, он иногда поощрял мой творческий порыв, сажая на колени.
Однажды после ужина, когда на дворе был поздний осенний вечер, отец, устроившись поудобнее, затянул свою любимую: «Ой, ты Галю, Галю молодая…». Пел он приятным глуховатым тенором. Я живо взгромоздился к нему на колени, стал подпевать своим высоким дискантом. Плавно лилась мелодия, он произносил слова, которые я не понимал, но старательно повторял. Было так здорово, я в этот момент с особым трепетом поглядывал на батю.
В русской печи потрескивали поленья, мама, слушая нас, вязала из шерсти носки или свитер, братишка затихал на полатях. Он пытался пристроиться к пению, но у него это плохо получалось, просто он был ещё маленький. Когда подрос, то смешно подпевал уже мне. Помню, я любил песню о комсомольцах-добровольцах и напевал:
И снег, и ветер, и-и звёзд ночной полёт,
Меня моё сердце в тревожную даль зовёт…
Брательник вместо слов выкрикивал: «Три-три-три, три-три-три…», − слегка картавя. Когда я пытался подсказать ему слова, он мотал головой и упрямо продолжал своё: «Три-три-три…»
В тот вечер, в самый пик нашего пения, неожиданно раздался звон разбитого стекла и на стол, за которым мы сидели, бухнулся булыжник примерно с отцовский кулак. Булыжник лёг как раз рядом с его кулаком. Песня оборвалась, отец чертыхнулся. Предупредив, чтобы мы отошли от окна, выскочил на улицу. Послышались крики, шум затихающего топота. Вернулся он мрачный, о чём-то долго говорил с матерью, я уж не помню.
Будучи взрослым, мысленно я возвращался к этому происшествию, предполагая, что же произошло тогда? Наверно, у отца были враги, а может, это было просто хулиганство? Случай запомнился ещё и потому, что всё прошло для меня на контрастах: сначала радостная сопричастность с песней, затем − каменный «гость» в окно, внезапный страх и, наконец, детская гордость за отца, что он большой и сильный – защитил нас отчего-то неприятного в этой пугающей ситуации.
Наши песнопения не возобновились больше, даже когда мы построили свой домик на заброшенном пустыре на краю посёлка. У меня же на всю жизнь осталось ощущение чего-то светлого в душе, а также сохранился интерес к народной украинской песне.
Об одной песне, не связанной с отцом, но с тем временем, хочется рассказать отдельно. Услышав её однажды, я всю жизнь периодически вспоминал её.
Как то, тяжело заболев воспалением лёгких, я был отправлен в соседнее село Волково на излечение в небольшую больничку; у нас в посёлка не было стационара. Поступил я на лечение с высокой температурой. Долго маялся, бредил, меня как-то лечили. Когда же очнулся от беспамятства, то увидел себя в незнакомой палате с белыми простынями и подушками на железной панцирной кровати. Вокруг лишь белели голые стены, да на противоположной стене у дверной коробки чернела тарелка репродуктора, из которого слышался голос диктора, монотонно читавшего новости. Мне было плохо, жар ещё не спал, в палате никого рядом нет. Я лежал и думал о маме, хотелось, чтобы она вошла и присела рядышком.
Вдруг из репродуктора полилась песня:
С добрым утром, дорогая,
Расстаемся мы с тобой.
И любовь моя большая
Остается за кормой.
Теноровый голос словно бился о противоположную стену над моей головой, пульсировал, волновал. Красивая мелодия проникала в самую душу, как и слова о море, о чайках, о загадочной любви…
Только чайка над водою
Сиротливо закричит,
Только сердце молодое
Одиноко застучит…
Эта песня долгие годы почему-то возникала периодически в голове, волновала, хотелось услышать её ещё, но как-то не случалось... Иногда в полудрёме ранним утром, в подсознании сами всплывали строчки:
До свиданья, дорогая,
Расстаемся мы с тобой…
Ты налево, я направо,
Так назначено судьбой.
Просыпался, в голове крутились какие-то отрывки. Я силился припомнить слова.
Позже в детдоме было как-то не до неё, и после не удавалось её услышать. Уже будучи взрослым, я всё намеревался написать письмо на радио Виктору Татарскому, ведущему передачу «Встреча с песней», слыша на этой волне исповеди слушателей, песни в исполнении полузабытых кумиров. Я перебирал в памяти теноровых певцов того времени: Виноградов, Козловский, Лемешев − нет, всё вроде не то…
В наше время, имея в руках почти всесильное средство – компьютер, однажды набрал в поисковике фамилию предполагаемого певца, но в его репертуаре такой песни не было. Я отложил эту затею, но потом догадался набрать строчки из песни: «С добрым утром, дорогая…» Надо же, оказалось, что песня так и называется.
И вот она звучит в наушниках, слышно, что это старая запись − в ушах шум крутящейся пластинки, льётся, клокочет в висках песня в исполнении Владимира Нечаева. Композитор - Василий Соловьёв-Седой, стихи Алексея Фатьянова. А вот и знакомая концовка:
Даже солнце каждым утром
Ждет свидания с землей…
Так неужто, дорогая,
Мы не встретимся с тобой?
Сильное волнение овладело мной, словно я встретил друга детства. Но друзья стареют, их трудно потом бывает узнать, а песню из детства, которую ты слышал однажды и она все эти годы жила в тебе где-то на уровне подсознания, вновь зазвучала в наушниках... это непередаваемо!
* * *
Когда отец получил участок под строительства дома, мы все очень радовались. Он у нас мастер на все руки: плотник, столяр, мог управляться с лошадьми. Наверно это не все его достоинства, но я говорю лишь о том, что видел своими глазами.
Помню, как мы строили дом всей семьёй. Как месили саман и делали кирпичи, и как, играя с братом в салки, я наступил на скошенную будылину прошлогоднего бурьяна, торчащую из земли, словно острое копьё. Будылина проткнула мне внутреннюю мякоть ступни до кости. Кровь полилась ручьём, я обхватил ладонью рану, присев на деревянного игрушечного коня, с удивлением смотря, как она сочится между пальцами.
Славик, заметив кровь, побежал в дом и позвал маму. Она приказала мне опереться на её плечо, я запрыгал на одной ноге к сенцам. Подставив самодельное ведро с керосином, сказала, чтобы я опустил в него ногу. В сельской местности это было испытанным средством, служащим своего рода антисептиком и кровоостанавливающим. Действительно, кровь скоро остановилась. Мама туго перебинтовала ногу чистой тряпочкой. Рана заживала долго, рубец и теперь можно разглядеть, как напоминание о том времени.
Кстати, о деревянном коне, который я залил своей кровью. Это была одна из забав, сделанных отцом для нас с братом. Потом был деревянный человечек из липы, ростом почти со Славика. У человечка двигались руки и ноги и, помню, как я с увлечением переставлял его ноги, словно учил ходить. К деревянному коню на колёсах отец сделал ещё тележку, её можно было впрягать в коня с помощью маленьких оглоблей. Конь был установлен на деревянной платформе, всё это могло катиться на металлических колёсиках. Я с усердием толкал повозку по двору, пыхтя и возя брата.
Помню ещё, как отец выстругал другого человечка, приделав ему жестяной пропеллер на спине, и установил на коньке крыши. Человечек смешно и резко поворачивался на ветру, вскидывал руку по его направлению. Казалось, что вот-вот он сам взлетит, потому что шум пропеллера то нарастал, то затихал.
АНТИНАУЧНЫЙ ОПЫТ
Когда мы построились, к нашему дому подвели электропроводку. Это почти не изменило нашу жизнь, образно говоря, её освещала лишь одна лампочка на потолке.
Всё также мама гремела ухватами и чугунками в недрах русской печки, извлекая вкусные борщи, каши, пекла хлеб и разные пироги. В печи томилось молоко и сливки, потому как родители завели всякую живность: появилась корова, позже − телёнок, родившийся зимой. Родители устроили ему загородку прямо в хате, рядом с нашими полатями на русской печке. Телок смешно мычал и некстати прудонил прямо на пол, застеленный соломой. В доме стоял устойчивый телячий запах и «аромат» мочи.
Ко всему привыкаешь, мы сроднились с телком, играя, как с членом семьи, но вскоре он подрос, окреп и его перевели в сарай, как говорится, на общие хлеба.
Отдельно у нас был устроен свинарник с навесом у забора, где хрюкали и визжали свиньи. Овцы, утки, куры, гуси находились под одной крышей с коровой, постоянно жевавшей жвачку, рядом сначала робко жался телок.
Для кур был устроен насест, овцы стояли за небольшой перегородкой.
Родители трудились пчёлками, мы с братом помогали, как могли. Уходя на работу или по делам, мама наказывала мне давать проса курам, корм уткам и гусям, следить за тем, чтобы была вода для питья в корытах, чтобы присматривал за братишкой; выполнял я и другие небольшие поручения.
Порой я находил себе довольно сомнительные игры. Почему-то не давало покоя одно обстоятельство: под потолком непонятным образом в лампочке светил огонёк. Я знал, что это электричество, мне говорили, что оно бежит по проводам. Провода подходили к фронтону чердачной крыши, цепляясь за молочные изоляторы. Но меня интересовало, что же там внутри? Где это электричество? Вода в трубе – это ясно. Может, в тонком алюминиевом проводе внутри есть полость, как трубочка, по которой течёт это самое электричество?
Как-то я остался дома один и решил проверить своё предположение. Под руку попался нож с металлической ручкой (были тогда такие штампованные ножи с выпуклым узором на рукоятке), я решил, что проковыряю провод, и оттуда потечёт это самое электричество. Залез на завалинку, попытался дотянуться до провода, но достать никак не удавалось. Принёс сделанный отцом небольшой стульчик, установил его на завалинку и повторил попытку.
Сооружение, на котором я стоял, было довольно шатким. Придерживаясь рукой за стену, я потянулся к проводу. Дотянулся и тут меня так шандарахнуло, что кубарем отлетел на пару метров от завалинки, бухнувшись на лужайку. Лежал и не в силах был понять, что же произошло. Полное потрясение...
Будучи уже взрослым и более искушённым в вопросах электричества, я часто вспоминал этот случай. Мне стало понятно, почему меня ударило током. Видимо, я дотронулся до фазового провода, а стена была сырая, таким образом оказался проводником между фазой и «землёй»?
Желания повторить свой эксперимент больше у меня не возникало. Зато опыт – «сын ошибок трудных» я получил сполна…
РОГАТКА
Мне было лет девять, когда я, следуя примеру сверстников, сделал первую рогатку. Смастерив её из оструганной рогатины, прикрепил к ней резиновую ленту и кусочек кирзы от старых сапог. Оставалось испытать это в деле. Крадучись вдоль плетня, по-над стенкой избы, я метился в воображаемые цели, стрелял по воробьям и сорокам, не попадал, но был вполне доволен охотой.
Брата дома не было, я отвёл его играть к соседским сестрёнкам − Людке и Вальке. Они были нашими «жёнами», а мы с братом – «мужьями». «Жёны» делали из земли всякие куличики, готовили обед. Мы, как уважающие себя мужики, должны были ходить на работу или на охоту.
Наши родители дружили, когда жили ещё в бараках, дружили и мы.
Первое, что я запомнил из наших «отношений», это то, что живя в бараке, играли вместе, она была как мальчишка, инициативной и энергичной. Как-то мы с Людкой спрятались под одеялом, словно прятались от всех. Она начала нашёптывать на ухо, предлагая лечь на неё. Мне было лет восемь, я не понимал, чего она от меня хочет. Она с жаром говорила, что нам будет хорошо, как взрослым… я артачился, к тому же мне было страшно: вдруг её мать или бабка зайдут в комнату и сдёрнут с нас одеяло, значит, понимал, что это что-то нечто запретное. Двери в соседнюю комнату не были закрыты, оттуда слышался разговор сидящих за столом наших матерей. Я позорно сбежал из-под одеяльного плена.
Позже, уже на новом месте жительства, особенно в летние дни, мы продолжали дружить домами. Валя была младше меня, но старше Славки. Люда напротив, старше меня на полтора года, она заправляла всеми играми, зная, как надо готовить обед, когда ходить «мужьям» на работу, рубить дрова, носить из колодца воду и спать в постели...
За этим невинным для меня занятием застала однажды знакомая тётка, подумала ли что, только потом пошли всякие слухи в посёлке, и нас с Людкой стали дразнить «женихом и невестой». В деревне только дай повод, чтоб почесать языками… Дошло до того, что стали дразнить знакомые пацаны, обзывать женихом, я кипятился, кидался в драку, давал кому-то в нос и сам получал в обратную.
Я перестал общаться с соседями, но этим всё не закончилось. Как-то к осени, в последнее наше лето в тех краях, когда поспели орешки, называемые на Кавказе фундуком, я лакомился ими у небольшой речки, не помню названия, вдруг в глубине зарослей орешника заслышал подозрительный шум. Мне это показалось подозрительным, и я медленно полез через заросли, увидев в самой глубине нечто подозрительное, копошащееся и издающее странные звуки. Приглядевшись, заметил двоих, лежащих прямо на земле, занимавшихся чем-то, как мне показалось, неприличным. Я узнал местного молодого пастуха колхозного стада, пасшего коров, под ним лежала «моя» Людка. Они громко сопели и, о боже, делали то, в чём нас обвиняла соседка, распустившая нехорошую сплетню.
Мне стало почему-то обидно, я закричал не своим голосом и, словно бизон, понесся не разбирая дороги. Промчался рядом с ними, кажется, даже наступив на чью-то руку или ногу. Бежал, унося своё разочарование, получив очередной урок предательства...
Мне было очень скверно, словно я съел горсть копошащихся пауков. Значит, Людка была мне не безразлична, всё ж дружить с ней я перестал.
Но это было после.
Напомню, в тот день я крался с рогаткой, совершая настоящее мужское дело – желая настрелять дичи. Но дичь не желала быть подбитой. Вот уже и время подошло к обеду, вижу: Славик идёт домой − проголодался, не удовлетворившись «жениными» куличами.
Как настоящий индеец, я затаился за свинарником и прицелился из рогатки в «бледнолицего», вот он в поле досягаемости моего «арбалета», я почти наугад выстрелил в него и, надо же случиться такой оказии, точно угодил камешком прямо в темечко, хотя расстояние было метров пятнадцать.
Славка заревел, я тут же подбежал и стал успокаивать, но, увидев струйку крови, стекающую к виску, испугался за него и потащил домой. Мама приложила тампон, остановила кровь, и, выяснив, что произошло, дала мне подзатыльник. Я и не пытался оправдываться.
В данном случае, как говориться, «воробей» оказался слишком крупной добычей, мне не по зубам…
* * *
Дальневосточный климат чем-то схож с климатом Кавказа: растёт фундук. Растут манжурские орехи, которые на Кавказе называются грецкими. В приморских лесах под Владивостоком, где я служил в армии, полно дикого винограда, а в лесополосах – чёрной лесной смородины. Конечно, она не совсем лесная, просто была насажена в лесополосах, и росла кругом без всякого ухода. Взрослые ходили с вёдрами собирать ягоды на варенье. Ах, какое душистое получалось варенье! Детвора тоже была не прочь полакомиться лесными дарами, промышляя в окрестностях.
А ещё в лесополосах росли «финики», так мы их называли, на самом деле, у них было какое-то другое название. Они были суховаты, но сладковаты на вкус, серебристо-махровые ягоды, с мягкой кожицей, почти без мякоти и с продолговатой косточкой.
Плоды этого дерева осыпались без надобности, как на Кавказе алыча, никому, кроме вездесущих мальчишек она была не нужна.
Мы ходили по полям и лесополосам, выискивая подсолнухи, а также всё, что попадётся съестного. Не потому что жили голодно, просто уходили на целый день, лазая по окрестностям, а съестного с собой, естественно, никто не брал.
Больше всего мне нравилось лакомиться черёмухой. Это главная ягода моего детства, потому что казалась (или это теперь кажется…) необыкновенно вкусной! Я залезал на развесистое дерево и ел крупные, размером с дикую виноградину плоды, с вяжущей, сладкой ягодой, беззаботно сплёвывая косточки. Опустошал одну ветку, перебирался на другую. До сих пор, где-то на уровне подсознания, помню этот вяжущий вкус и аромат.
Дерево росло недалеко от дома, когда-то здесь был сад, но его забросили. Я забирался на дерево и ел ягоды, пока их не оставалось совсем.
Как я теперь мечтаю поесть черёмухи, снова ощутить этот вяжущий вкус детства… На Кавказе для неё, видимо, не климат. Дерево здесь болеет, ягоды почти не завязываются, а те, что остаются – сухие, костлявые. Сосед по даче посадил привитое деревце, но оно почти не плодоносило, а то, что всё-таки оставалось на ветках и близко не было похоже по вкусу и другим параметрам на черёмуху моего детства. Наверно, мы склонны идеализировать эту пору, с другой стороны с возрастом всё отчётливее вспоминается именно те маленькие мелочи, радости и горести, почему-то мы их начинаем идеализировать. Если переиначить немного известную поговорку: деревья были больше, а мы в тысячу раз счастливее.
Как я уже говорил, в деревне моего детства росли орешки лещины сразу за посёлком у речки − чистые, не червивые. В зарослях к осени можно было рвать их мешками. Орешки, словно в оправе, формой похожи на желто-зелёную корону, на макушке видна маленькая проплешина, словно лысый затылок. Под коричневыми скорлупками спелые ядрышки.
Мы «паслись» на природных «пастбищах», купались в мелкой речушке, ловили странных рыбёшек, наподобие пескарей. Рыбёшки, помню, были с оригинальными названиями, и назывались гольянами и ротанами. У последних было маленькое туловище, но большой рот «до ушей», жабры и голова. Рыбёшки, кажется, ротаны после паводка умудрялись выживать даже в лужах. Когда они почти высыхали, рыбёшки зарывались в грязь, впадая в анабиоз. Дождь заполнял лужи и они снова оживали.
Зимой на болотистых озёрах, в паре километров от нашего посёлка вода промерзала до дна, поверх льда покрывалом ложился мох. Под ним можно было собирать рыбу, отвернув слой природного «одеяла». Перезимовав в таких условиях, она также выходила из спячки, отправляясь в плавание, как ни в чём ни бывало.
Мы ходили на озёра зимой, собирали рыбу в карманы, в вёдра, иногда пацаны тут же, насадив на палочку, поджаривали её на подожжённом камыше, съедая полусырое сладковатое мясо.
Эти места известны тем, что здесь проходила война с квантунской армией. Японцы во вторую мировую захватили приграничный Дальний восток, в наших болотах настроили дотов и дзотов, сделав мощный укрепрайон. Но быстрое наступление советской Армии, освободившее не только наши территории, но и Китай, Корею от японских милитаристов, лишило их почти всего вооружения, не дало развязать химическую и бактериологическую войну, от которой пострадало бы население не меньше, чем от атомных бомб Хиросима и Нагасаки.
Я был маленьким и не знал тогда истории времён прошедшей войны, зато нам с ребятами было интересно лазить по хорошо сохранившимся бетонным сооружениям, там были замурованные кладовые, в которых могло храниться всё, что угодно. На взгорках и рядом с дотами мы находили патроны, гильзы и остовы ржавых винтовок.
Отца однажды заинтересовало содержимое одного из таких дотов. Летом на болотах он косил сочную траву для нашей коровы, тёлки, овец, я помогал ему. Отец косил, я переворачивал траву, она подсыхала, мы складывали её в копна, потом отец перевозил готовое сено на телеге к дому.
Однажды отец принёс из дома тяжёлый лом и попытался открыть в доте замурованную дверь. Что могло быть за этой железной дверью? Видимо, он рассчитывал на то, что там находятся вещи, пригодные для хозяйства. Находили в дотах раньше люди сапёрные лопаты, клинки, а ещё говорили, что кто-то, умудрившись вскрыть такую дверь, обнаружил за ней склад с консервами, тушёнкой, прекрасно сохранившиеся с времён войны. Прошло ведь немногим более десяти лет, после её окончания. Вполне могли там оказаться и боеприпасы, оружие. После войны видимо в спешке не всё проверили наши сапёры, к тому же места здесь глухие. Почему бы рачительным мужикам не поживиться тем, что брошено и может оказаться полезным в хозяйстве…
Мне тоже было интересно, но страшновато: казалось, что за толстой железной дверью притаились скелеты, или какие-то фантастические существа, вроде огромных пауков…
Батя, сколько ни бился, не смог открыть дверь − сделано на совесть. Тайна для нас так и осталась неразгаданной, без солидной технической подготовки, без автогена, невозможно было проникнуть внутрь за толстые металлические двери и полуметровую железобетонную стену. Не знаю, как сейчас, наверно, уж не осталось больше тайн, но сами доты и дзоты так просто не разрушишь, значит стоят эти «памятники» оккупации японским милитаристам и поныне в тех местах. Стоят они и на островах Итуруп, Хабомаи, Шикотан и других, на которые теперь претендует Япония.
* * *
Мама вставала очень рано доить корову, чтобы отправить её в стадо, давала корм и воду птице, разводила баланду свиньям, подбрасывала сена овцам и козам, готовила завтрак отцу и мне, потом бежала школу. Иногда часть работы с ней разделял отец, но это было не так часто, больше всё сама, отец вставал тоже рано и уходил на работу.
Разве перескажешь всё, что ложится на крестьянские плечи, но женщине всегда в России доставалось больше…
Будучи уже взрослыми, я понял, как тяжело было моим родителям. Несладко жилось почти всем тогда. Мама родила и воспитала четырёх сыновей, недоедала, недосыпала, лучшее отдавала нам, как большинство матерей того времени, выкладывалась на полную катушку. В неполные пятьдесят выглядела так, как сейчас не выглядят семидесятилетние городские женщины, не очень вроде и выработавшиеся, ищущие себе хобби для души. Я не осуждаю современных женщин в их стремлении жить в комфорте, об этом мечтали поколения россиян, да и не только, нет в этом ничего плохого. Но большинство наших мам просто не могли тогда позволить себе иную жизнь, тем более позволить отдых или какие-то развлечения.
Для каждого ребёнка его родители − самые лучшие, им не важно, как они выглядят по отношению к другим, главное, чтобы были рядом и здоровы.
Подсознательно меня с детством, с матерью сильно связывает память не только благодаря ностальгии по радужным временам и дарам природы, мне запомнились некоторые блюда, которые готовила она в детстве. С мамой прочно ассоциируется, например, вкус вареников и затирухи − незатейливых крестьянских кушаний. По мне так вареники с сырой картошкой и сейчас самое лучшее блюдо на свете. Конечно, это не деликатес.
Рецепт их приготовления очень прост, вареники лепят во многих русских семьях. Делают тесто как на пельмени, очищенную картошку нарезают соломкой, подсаливают, добавляют нарезанного таким же манером репчатого лука, чёрного молотого перца для запаха и вкуса (можно и без перца). Это начинка, всё остальное как обычно. Вареники горячие, картошка даёт сок внутри, сверху не забудьте положить домашней сметанки, и ешьте − за ушами трещит.
Есть любители вареников с варёной картошкой, с луком, с ягодами, кто-то любит пельмени... Я, кстати, тоже всё это с удовольствием ем, но вареники с сырой картошкой...
Про затируху и клёцки хозяйки постарше знают, − самое простое, что можно сварганить на скорую руку. Это можно «облагородить», добавив картошки, морковки, лука. А ещё лучше, если это сделать на курином бульоне. Мне вспоминается прошлые «деликатесы» как что-то особенное, что я ел в те годы.
Когда у нас появился достаток, мама стала делать блины, пироги, наваристые борщи, супы с клёцками. Щи и борщи томились в русской печи под загнеткой, там же готовилась прочая нехитрая деревенская снедь.
А сливки, томленные или, как говорят в Оренбургской области, жаренные в духовке... А хлеб, испечённый в русской печке…
Помню, летом в комнате из-за жары невозможно было что-то варить, потому отец сделал во дворе подобие такой же печи, что были в русских народных сказках про Алёнушку и братца Иванушку, которого утащили гуси-лебеди. В сказке Печь говорила женским голосом: «Съешь, Алёнушка, моего ржаного пирожка, тогда скажу, куда гуси-лебеди полетели…»
А ещё вспоминается печка Иванушки-дурачка, на которой он ездил к царевне Несмеяне…
Такое сказочное существо стояло и у нас во дворе, а мама орудовала ухватами в её жерле, казалось, вот сейчас вместе с углями внутри с синим дымком над покосившейся трубой печь запыхтит и двинется в неизвестном направлении…
От тех времён, в память о маме, у нас с братом сохранились всего три фотографии, на одной из них – мы четверо, не считая большой серой кошки Мурки на моих руках, сидим на лавочке −мама, я, брат, племянница Надя (дочка старшего брата Николая). У мамы на снимке грустная улыбка, на ней старенькая кофта да грубая юбка, нетребовательна была в еде и в одежде. А может просто гардероба, как такового не было... Небогат он был у большинства крестьянских людей в те годы.
* * *
Я иногда задумываюсь о том, что моё появление на свет − большая лотерея. Выиграть приз под названием Жизнь, учитывая множество факторов, которые просто не назовёшь иначе, как чудо. Удивительны хитросплетения судьбы. Сколько невероятных событий должно было произойти, чтобы наши престарелые родители встретились, сошлись и смогли создать семью. Для этого надо было чтобы отца сослали, как репрессированного с Дальнего востока на Урал… В голове не укладывается: людей тасовали, играли их судьбами, словно картами. Так же, как карты, они не ценились, целыми «колодами» перемещались, уничтожались за ненадобностью.
Должна была произойти масса совпадений, чтобы родители встретились, но это случилось! Правда, судьба вскоре отыгралась с лихвой на них, и на их детях, то есть на нас…
* * *
Беда случилась в преддверии новогодних каникул. Я шёл в школу и на пути встретил маму, она возвращалась домой, так бывало почти каждый день. Мама пожаловалась, что сильно болит голова. Сказала, что дома хотела бы полежать, отдохнуть, но очень много работы по хозяйству.
В тот день, отучившись в школе, и начисто забыв о нашем утреннем разговоре, я пришёл домой возбуждённый, как всегда голодный. Дома почему-то сидел за столом отец, что не характерно для него в это светлое время дня, угрюмо свесив голову. С полатей русской печки торчала тёмная голова братишки.
Отец спросил меня, видел ли я маму, говорили ли мы о чём-нибудь? Я рассказал об утренней жалобе мамы на самочувствие, и в свою очередь поинтересовался: «А что случилось?» Отец с трудом передал события дня. Из рассказа я понял, что дома маме стало плохо, потом совсем невмоготу, и она попросила Славика сбегать за соседкой. Та, прибежав на зов брата, увидела маму в беспамятстве, лежащую на полу. Рядом с кроватью валялась подушка, перевёрнутый стул, одеяло, сбитое в комок. От боли в полубеспамятстве она хваталась за всё, что попадалось под руку.
Соседка разыскала отца, хорошо, что он не уехал в город, как это случалось часто. Но что он мог сделать? Понятие «скорая помощь» в то время для нас было неведомо. Когда я вспоминаю эту «Тмутаракань», то думаю, что маму вполне могли бы спасти, будь то более цивилизованное место и время.
Отец выпросил лошадь, запряг в телегу и повёз её в соседнее село, где была небольшая больничка. Он спешил, вёз маму по просёлочной тряской дороге, но при этом заболевании (инсульт), как известно, трясти больного категорически нельзя, а помощь нужна мгновенная. Тем не менее, когда она оказалась в больнице и ей сделали укол, пришла в себя, успев наказать отцу по поводу дальнейшей судьбы детей, как он рассказывал, чувствуя, что это конец, просила, если что – вернуться в Оренбургскую область, потом закрыла веки навсегда, перестало биться её измученное сердце…
Хоронили маму как раз на тридцать первое декабря, под Новый год. Последние дни 1959 года стояли пасмурные. До этого накрапывал холодный осенний дождь. Земля раскисла, сама природа словно загрустила.
Полуторка, в кузове которой мы ехали вместе с гробом матери, переваливалась на ухабах просёлочной дороги, буксовали колёса. Отец и мы с братом сидели в кузове на скамейке, поставленной у борта. Сидеть было высоко и неуютно, шёл мелкий снег, набивавшийся в закрытые глаза маме, нам было зябко, ветерок холодил за шиворотом.
Мне хотелось смахнуть снег с её закрытых век, казалось, что он мешает ей, я понимал, что это бессмысленно и в то же время всё моё детское существо противилось, кричало о несправедливости происходящего, хотелось, чтобы мама очнулась, открыла глаза и сказала: «Как я здесь очутилась? Детки мои, нам пора домой, там корова недоеная, обед надо готовить…»
Кладбище находилось на взгорке, в километре от села. Машина с трудом дотянула по раскисшей дороге к месту последнего пристанища мамы, прощание было коротким, без речей. Но хоронить её сразу не стали, просто накрыли могилу деревянным щитом и оставили, поскольку ожидали Виктора. Он вылетел самолётом из Оренбурга, но застрял в Чите из-за нелётной погоды, добираясь дальше поездом.
Могила ждала сутки, брат приехал через двое, маму уже зарыли. Выходит, зря спешил. Но так распорядилась судьба…
Мир и относительный покой в нашей семье, налаженный с великим трудом, рухнул в одночасье. Теперь я представляю, каково было состояние отца: в семьдесят четыре года остаться с двумя детьми шести и десяти лет.
Думал ли он когда решался в столь преклонном возрасте о риске завести вторую семью, зная, что давно и сильно болен.
Запомнился один из немногих его рассказов, как в молодости, будучи уже в женатом состоянии, серьёзно простудился по своей глупости.
Было это так. Вернувшись изрядно навеселе с вечеринки домой, едва переступив порог, он рухнул у входа на пол и мгновенно заснул головой к двери, как был – в овчинном полушубке с высоким стоячим воротником; и проспал так до утра.
С женой, по его словам, у них отношения были очень сложными, она даже не соизволила отвернуть его в сторону, или прикрыть чем-нибудь злополучную щель в двери, в которую задувал зимний сквознячок. После этой ночи отец сильно застудился.
Он говорил, что у него бруцеллез. Когда я слышал этот рассказ, я не знал что это такое. Этому заболеванию подвержены животные, но оно поражает и людей. С возрастом заболевание, как и сопутствующий «букет» из других болезней у отца стал очень сказываться. После детского дома я жил с ним и с мачехой некоторое время. Он постоянно жаловался на сильные боли в суставах. Было ему уже тогда восемьдесят с гаком. Отец буквально умирал каждую ночь, но утром хвори отступали, и он начинал чем-то заниматься. Рядом с домом завёл огородик, где
по-Мичурински выращивал разные сорта огурцов, помидоров, пытаясь этим как-то прокормиться. Ведь пенсия у него была всего 19 рублей, даже по тем временам, этого едва лишь хватало на хлеб.
Запомнилось, как интересно он подвязывал кусты помидоров к подпоркам, он делал это с помощью торкалей и растяжек в несколько ярусов. Было любопытно видеть гроздья помидоров, висящих на ветках рясно, словно огромные виноградины. Крупные сорта краснели и желтели среди резной зелени листьев. К отцу ходили соседи, расспрашивали, удивляясь обилию урожая и количеству сортов. Где он их доставал – для всех загадка.
* * *
После смерти мамы, отец решил выполнить её волю − снова возвратиться в Оренбургскую область.
Перед отъездом, я впервые увидел братьев по отцу, а также своих племянников. Одного брата звали Алексеем, у него мы жили пару месяцев, пока отец продавал нажитое имущество и дом, другого звали Сергеем, третьего увидеть не удалось. Братьям было уже за тридцать или за сорок, и мне они по возрасту годились в отцы. Была ещё сестра Люба, но я её так и не видел, узнал об её существовании лишь после детского дома.
Можно только догадываться об отношениях отца со своими старшими детьми, думаю, они были тоже не простыми. А отношение братьев к нам − нежеланным отпрыскам и вовсе не сложилось, не задалось у нас родственных чувств. Пробовал я, будучи юношей, наладить с сестрой переписку, но она не ответила.
У отца оставалась надежда на помощь пасынков, моих старших братьев по матери. Дальневосточные отказались.
Итак, мы снова прибыли на Урал, меня принял в семью Виктор, у него было три дочки, дошколята − Надя, Лена и Света. Мне было десять с половиной.
Славу взял к себе отец, срочно найдя себе бездетную вдовушку.
Летом под натиском невестки – жены брата и мачехи отец отдал нас в детский дом. Для меня с братом начался новый этап в жизни, всё в нём было непонятно и странно. Пришла иная действительность, приучая нас с братом к самостоятельности, к новым реалиям, в которых необходимо было научиться выживать. Но выживать мне было сложно: своенравный по характеру, я всем существом противился навязыванию чьей-либо воли новых «братьев» по казённому дому, порой жёстких, даже жестоких порядков, чужой гегемонии. Но об этом позже.
Что касается отца, то после того, как мы с братом поочерёдно покинули детдом и разъехались кто куда, он пережил третью жену, нашу мачеху, похоронив её, так уж ему на роду было написано, продал домик и уехал опять к старшим детям, внукам и правнукам на Дальний восток. Там и закончил свой многотрудный жизненный путь на девяносто втором году жизни.
Я с семьёй в то время переехал из Прокопьевска на Северный Кавказ. Известие о его смерти пришло в сибирский городок, где меня уже не было. Телеграмму переслали, но прошла целая неделя, и смысла ехать на его похороны не было...
Лежат мои родители, считай, на другом конце необъятной России, неподалеку друг от друга, но поврозь, и вряд ли мне удастся когда-либо поклониться их праху…
ПОД КРЫШЕЙ ОБЩЕГО ДОМА
Директор детского дома Сидор Иванович С., фронтовик лет пятидесяти, был высоким, сухопарым человеком, с правильными чертами лица. Ходил в роговых очках, и мне думалось, что он даже спал в них. Из-за стёкол очков всегда смотрел строгий, пронизывающий взгляд, направленный, казалось, прямо в вашу душу...
Сидора Ивановича мы называли за глаза разными прозвищами: Сухарём, Очкариком, Директором. Он был в общем-то неплохим человеком. Вся эта строгость, скорее всего, была напускная. Своих детей он с женой не имел, а чужих побаивался, прикрываясь маской педанта и ментора. Но судьбой ему выпало оказаться на поприще педагога. Мне теперь кажется, что его строгость была лишь защитной реакцией. Маска, позволяющая играть роль, некий типаж директора в стиле Макаренко, только роль эта была какой-то неубедительной. Может у него просто не хватало практики в педагогике? В войну для его поколения была главная наука − побеждать. Но с детьми кавалерийскими методами не добиться нужных результатов.
Основной обязанностью педколлектива, как он говорил, внушать детям − как должно им себя вести вообще и в частности, применительно каждому в конкретной ситуации. Для этого почти ежедневно лично читал нам нравоучения на построении перед обедом. Говорил он долго и серьёзно, монотонным голосом объясняя, что воспитанники обязаны хорошо учиться и неукоснительно выполнять требования директора, завуча и воспитателей. Эти лекции затягивались на полчаса или час. Представьте картину: «сотня юных бойцов», а нас было что-то около роты по количеству воспитанников, стоящих в шеренге по четыре и переминающихся с ноги на ногу, изнемогающих от голода. Обед в столовой давно остыл, «бойцы» ждут. Не выдержав, кто-то начинает шалить, толкаться, разговаривать. В животе урчит, в голове одна лишь мысль о том, когда дадут команду: «Направо! В столовую шагом марш!».
Построения не всегда обходились только нравоучениями. Частенько директор осуществлял свои угрозы, благо, провинившиеся или жертвы всегда находились. После своей речи он произносил примерно одно и то же, менялись лишь фамилии: «Садчиков, выйти из строя!»
Витька Садчиков был моим другом, его вытащил директор на сей раз за то, что на его глазах дружок ударил портфелем по голове одного из братьев Никулиных, «дозолявшего» Витьку. Директор не знал, что братцы сами вечно кого-то подначивают, на нашем сленге – «дозоляют», за что были не раз биты, но отвечали своим врагам разными мелкими пакостями, как правило, втихую.
Против меня, например, недруги как-то раз организовали ребят помладше, чтобы те напали где-нибудь в укромном месте и навешали мне тумаков. Были среди наших воспитанников два брата Никулиных − забияки, но мелковатые ростом, умевшие организовать ещё несколько таких же петушков. Однажды компания из пяти-семи пацанов окружила меня в комнате для занятий, пытаясь взять в кольцо. Зная этот коварный приём, я постепенно отступал в угол, прижимаясь по стенке, не давая повиснуть на мне, иначе − затопчут. Отчаянно отмахиваясь от наседавших, причём они же мешали друг другу, я увёртывался, поддавал «горяченьких» то одному, то другому. Когда расквасил одному нападавшему нос или губу, свора тут же разбежалась.
Главное, усвоил я, не поддаваться страху. Встретив потом одного из братьев в коридоре, где не разминуться, подошёл с намерением врезать для профилактики, чтоб неповадно было. Но он заверещал, что его якобы с братом заставили это делать старшие, униженно просил прощения и я отступил, не в силах бить более слабого. Не успели мы разойтись, как от него вновь в спину полетели обидные слова и прозвища. Я пустился за ним в погоню, но догнать не смог, да и желание пропало… По натуре я не кровожаден и не мстителен. Мне кажется, что большинство нормальных людей так же устроены, но есть незначительная часть тех, кто любит кукловодить, от них – все войны на земле, меньшинство управляет большинством. Одним свойственно подличать, удел других – прощать и каяться…
Витька Садчиков по приказанию директора обречённо вышел из строя, расталкивая впереди стоящих, потому что ходил вперевалку, как маленький, крепко сбитый морячок. Он и хотел быть в будущем моряком, на нём почти всегда была застиранная тельняшка, доставшаяся ему от старшего брата-моряка, и он говорил, что когда вырастет, тоже пойдёт служить на флот. Повернувшись лицом к товарищам, втянув голову в плечи, Витька обречённо ждал приговора. Директор объявил вину Витьки, повторив ещё раз, что советский человек должен вести себя подобающим образом, как то: не ругаться, не драться, прилежно учиться и слушаться старших, в данном случае – воспитателей и учителей.
Честно сказать, − мы не ангелы. Ясное дело, за свои шалости надо отвечать, но в данном случае и всегда, директор не интересовался причиной или поводом совершённого проступка, ему ясно было, кто виноват и что следовало за это провинившемуся. Вот и сейчас он объявил: «Садчиков остаётся, остальные – напра-во, в столовую шагом марш!»
«Остаётся», значит не идёт обедать. Мне не раз приходилось быть среди таковых. Но оставление без еды, это, как я узнал гораздо позже, недопустимая мера в педагогике, поскольку это вредит здоровью неокрепшего организма.
Летом ещё можно было обойтись без обеда: нарвать зелени в огороде, ребята выручали, принося за пазухой куски хлеба. За обедом мы сидели за столами по четыре человека, ребята-состольники съедали «лишнюю» порцию, чтобы она не пропадала зря. А что можно было пронести за пазухой − хлеб, котлету, они относили товарищу.
Однажды по дороге в школу я шёл с портфелем и с толстой книгой под мышкой. Книга не умещалась в портфель, потому была видна издали. Я собирался почитать «Всадника без головы» во время перемен, и, чего греха таить, почитывал и во время уроков.
Школа была напротив детдома, там мы учились вместе с сельскими детьми. Я опаздывал на урок и о, ужас! – на пути оказался Сидор Иванович. Его высокая сухопарая фигура стояла в воротах, убегать мне казалось не солидным.
Видимо, по-фронтовому быстро, оценив ситуацию, директор властно произнёс:
− Воспитанник, почему идёте в школу с … э-э-э… Майн Ридом? – прочитал он имя автора книги на обложке, − чем вы занимаетесь в школе, уроками или художественной литературой?
Я молчал, пойманный, что называется, с поличным.
− Давайте мне сей час (он так и произнёс это слово – раздельно) книгу! Да поспешите, вы на занятия уже опаздываете! При этом сделал движение, попытавшись выдернуть книгу у меня из-под мышки. Я инстинктивно отпрянул в сторону, зная, что он прав, но отдать книгу было выше моих сил, да и не надеялся я получить её обратно.
Сидор Иванович, видя, что так просто меня не взять, применил ещё один педагогический приём: «Воспитанник, вы уже взрослый и должны сознавать меру ответственности за свое поведение. Посмотрите, у вас кулаки, как у мужика!..»
Он так и сказал: «мужика», что польстило мне − в смысле силы и возраста, я невольно глянул на сжатые кулаки. Мне стало стыдно за свой поступок, но только на миг.
Директор, уже предчувствуя победу, предложил компромисс: «Давайте книгу, а после занятий придёте ко мне в кабинет и заберёте». То ли при слове «кабинет», то ли сработал некий импульс противодействия: неожиданно для себя я нырнул под руку директора, рванул за калитку и был таков.
Я знал, что мне не поздоровится. Мысль о том «что будет?» − уже сверлила мозг. А случилось как раз то, что можно было предположить − лишение обеда, на другое у директора не хватило фантазии.
Зато он косвенно добился своего: на уроках книг я больше не читал, но не потому, что боялся наказания, просто по большому счёту понимал, что он прав. Приобщаясь к разумному вечному, нельзя делать в ущерб одно другому.
Жена директора − Анна Ивановна (Аннушка, как ласково мы её называли), состояла в должности фельдшера при детдоме. Она и на фронте была военфельдшером. По совместительству и призванию души руководила у нас духовым оркестром. Руководила и сама играла на трубе, я же в оркестре играл на теноре, потом пересел на баритон, затем на альт, под конец освоил бас-геликон. Играть на первых двух было сложнее, но интереснее. Перейти же на геликон меня попросила Аннушка. Большая басовая труба великовата для хилых ребят, а я был рослым подростком и довольно легко справлялся с огромной никелированной загогулиной, − выдавая свои «ис-та-та», что называется, − из-под такта.
Игра в оркестре давала некие преимущества среди собратьев по детдому. Нас освобождали от уроков когда нужно было кого-то хоронить. А похороны с оркестром в то время были особенно в моде.
На Первомайские или Ноябрьские праздники мы шагали в первых рядах и нам завидовали многие ребята. Вообще духовые инструменты в детдоме, это привилегия сильного пола, девчонкам трудно справляться с ними, и мы пользовались у них неизменным успехом.
Аннушка, добрая, милая Аннушка часто нас выручала, когда муж-директор лишал оркестрантов обеда, она подкармливала ребят домашними пирожками, чем-то вкусненьким и вообще относилась к нам неформально.
Детей своих, как я уже сказал, директорская чета не имела, потому что Аннушка носила с войны осколок в паху. Осколок вёл себя по большей части тихо, но иногда начинал двигаться в теле, причиняя неприятности хозяйке.
В добром расположении, в минуты отдыха от репетиций, Аннушка часто рассказывала нам о своей личной жизни на фронте. Что поражало, делала она это довольно откровенно, без всякой ложной сентиментальности, запросто рассказывала о своих связях со сослуживцами военных лет в романтических красках. Однако война наложила определённый отпечаток на её характер, к тому же профессия медика располагала к суровой правде без прикрас, в профессиональных вопросах она была жёсткой и принципиальной. Это касалось, к примеру, руководства оркестром, режима репетиций, лечения пациентов, если они начинали выпрашивать поблажку и капризничали во время приёма лекарств или принятия процедур.
Мы её обожали, разве что не называли мамой, но музыканты были у неё фаворитами. Имелся у Аннушки и любимчик − мальчик-красавчик Серёжка Анохин, чем-то внешне похожий на Есенина: кудрявоголовый, с породистым холёным лицом, он часто подолгу пропадал у неё дома. Анна Ивановна одевала его в обновки, что также вызывало к нему ревность других ребят.
Директор знал, но не приветствовал привязанности жены. Мы же с ребятами недолюбливали «Сирожу», как однажды назвал его кто-то из голопузой малышни. Лично я тоже ревновал его к Аннушке и как-то в запале сказал, что «нехорошо откалываться от друзей». Он был старше меня на года полтора и крепче физически.
Простая детская зависть, но дружок почему-то затаил зуб, видимо не допускал даже малейших поползновений к своей «мамочке». Позже, в летнем лагере во время летних каникул, подкараулив меня в лесу, сбил с ног и стал что есть силы пинать в лицо, в живот. Всё случилось так неожиданно, что я не смог оказать ему сопротивления, только закрывал лицо, но он бил по голове ботинками, потом снова в живот.
Когда он натешился в своей злобе и ушёл, я долго отлеживался, выплёвывая кровь, приходя в себя. Лицо и тело было в ссадинах и крови, голова гудела, меня подташнивало. С трудом поднявшись, я прислонился к дереву, стал стучать головой от злости и обиды о ствол, как бы проверяя прочность дерева или головы... Но она онемела, стала будто деревянной. Мне было так скверно, что я побрёл по лесу, куда глаза глядят. Шёл и думал: зачем он это сделал? Чем я его так обидел? Наверно это была личная неприязнь, значит, он меня тихо ненавидел, и, лелея мечту, планировал это неожиданное избиение.
Вообще подобные случаи у нас не были редкостью, старшие избивали младших даже не за провинность, а просто, чтобы показать своё превосходство, иногда натравливали малышню друг на друга.
Вспомнился мне подобный случай с воспитанником Гамалеевым. Его не любили многие и при случае шпиговали все, кому не лень. Он и в самом деле был неприятным, безвольным, губастым и безответным на грубость. Во мне он вызывал брезгливость, но я обходил его стороной и никогда не трогал. Его так замордовали, и была угроза, что забьют совсем или сделают окончательно дурачком, вечно он ходил в синяках и ссадинах, замазанных зелёнкой. Это Аннушка всех так лечила. Его вскоре перевели в другой детский дом.
Никогда я не смогу понять природу жестоких людей, откуда столько звериной злобы? Может, Анохин по натуре был злобным, только и ждал момента, чтобы расквитаться? Вроде этого нигде раньше не проявлялось, но он был скрытным, необщительным. Я же со всеми находил общий язык, за исключением некоторых, таких как братья Никулины. У меня было много друзей, с ними я ходил на разные «дела», мне доверяли и я дорожил дружбой.
Для меня так и осталось загадкой выходка любимчика Аннушки, но с ней я не связывал это происшествие, она бы его поступок не одобрила.
Опомнился я уже в селе, у ворот детского дома, где теперь никого не было. Зачем пришёл сюда, я не знал, просто ноги привели. Возвращаться в лагерь не хотелось, и я побрёл дальше в сторону железной дороги, что в километре от села. Тут у меня мелькнула мысль: «Убегу из детдома, уеду к отцу, к братьям…»
ПОБЕГ
Железная дорога, соединяла два областных центра – Оренбург и Куйбышев (ныне Саратов). До ближайшей узловой станции Бузулук было восемнадцать километров. Сесть на ходу на проходящий поезд было нереально, поэтому я отправился на станцию пешком.
Стояло позднее лето шестьдесят второго, время хрущёвской оттепели, о чём я тогда тоже не подозревал, брёл вдоль железки, по правую руку тянулась бесконечная лесополоса, в которой весело распевали птички, припекало солнце. Во время ходьбы я немного успокоился, утихла боль в голове, вспомнился родной посёлок, отец и старшие братья. Очень сильно захотелось повидать их.
Почему при живом отце и множестве родственников, в основном братьёв по материнской и отцовской линии мы с братом находились в детском доме? Всё просто и сложно. У братьев и сестры по отцу дети - мои племянники, были старше нас. Из братьев по матери её младший был на десять лет старше меня. Отец жил в примаках у мачехи и по состоянию здоровья и по возрасту уже не в состоянии был воспитывать своих младших детей после смерти мамы.
Многочисленная родня отказалась взять нас на содержание, поэтому, как говорится, при семи няньках остались без глазу...
Прошло два года после нашей разлуки с родными (а может быть ссылки), я плёлся под палящими лучами солнца, предвкушая момент встречи с Виктором (не к мачехе же идти). Я представил, как внезапно предстану перед ним, он обрадуется, а жена его Галя усадит за стол вместе со своими детьми и скажет: «Какой же ты худой, Саня, давай-ка сядь да поешь борща со сметаной, домашнего».
Готовила Галя вкусно и у меня инстинктивно засосало в желудке. Она конечно спросит: «Почему приехал?». Расскажу о своём житье-бытье в детдоме, старший брат сжалится и заберёт меня к себе.
Работал Виктор в райкоме партии, возил на «волге» первого секретаря. Жила его семья вполне прилично по тем временам, Виктор был хозяйственным, оборотистым мужиком, получил от железной дороги квартиру благодаря райкому партии в коттедже на две семьи. Тогда я ещё не понимал, что значит «лишний рот», у них своих было трое девчат-погодок. Принять решение об опеке не просто, да оно и не принимается с бухты-барахты. Допустим, даже если брат согласится забрать нас со Млавиком из детдома, есть ещё множество всяких формальностей, которые необходимо решить.
Но об этом я тогда не думал, не знал об этих бюрократических и житейских премудростях. Устремлённый одной целью − вперёд, к родным местам, я шагал, прячась в тени деревьев, срывая головки цветов и листья с деревьев, разминая их пальцами и нюхая или жуя эту зелень.
Подходя к городу, я неожиданно набрёл на полигон, вдали виднелась военная техника, а в траве под ногами нашёл солдатскую пилотку. «Очень кстати», − подумал я, надев на голову, в открытом поле сильно припекало.
За полигоном начинался город большим товарным разъездом. На путях стояло много вагонов и готовый к отправке состав. Дорога здесь одна – на Оренбург, если ехать в сторону моего посёлка. Туда же смотрела и голова состава, похоже, готового вот-вот отправиться. Я решил, что судьба благоволит мне. На платформах стояли крытые брезентом танки, машины.
Состав действительно тронулся, раздумывать некогда, я забрался на одну из платформ, где стояли новенькие, пахнущие краской, зелёные военные машины. Мелькнула счастливая мысль: а что, если забраться в кабину и таким образом доехать до места? Нажал на ручку, щёлкнул замок, меж дверью и кабиной образовалась небольшая щель, но дальше что-то удерживало (впоследствии я узнал, что «мешала» пломба). Дёрнул сильней, дверь подалась и вот я уже на сиденье машины.
На улице было ещё светло, поезд медленно набирал ход. Вот проплыл перед глазами старинный железнодорожный вокзал, замелькали хрущёвские пятиэтажки, затем частные дома, поезд выбрался за черту города. По сторонам расстилался однообразный пейзаж: родная оренбургская степь на сотни вёрст окрест с теми же лентами бесконечных лесополос вдоль железной дороги.
Я приоткрыл оконное стекло грузовика, тёплый ветерок ворвался в кабину, поднялось настроение: впервые я ехал один и свободный от всего и от всех! Здорово мчаться в неизвестность, и пусть завтрашний день может принести новые огорчения, но сегодня за окном мелькали полустанки, перелески, ленты разбегающихся дорог.
Мерно постукивали колёса. Наступила ночь, подо мной упруго покачивалось уютное сиденье, я заснул.
Не знаю, сколько было безмятежного сна, но очнулся я от подозрительных стуков, затаился. Ходили по платформе с фонарём. Кто-то посветил внутрь кабины, сердце замерло. В тишине свет скользнул по моему убежищу, чуть задержавшись, перекинулся в другое место. «Наверно не заметили», − понадеялся я.
Щёлкнул замок двери, она распахнулась. В глаза ударил яркий свет фонаря, через пару секунд раздался низкий мужской голос: «Эй, солдатик, ты что перебрал, что ли? А ну вставай, выходи, или тебе хочется неприятностей?» Я продолжал лежать, скорчившись на сиденье. Тогда в кабину протянулась сильная рука, ухватившая меня за шиворот, и властно потянула за собой.
− Ах, ты шкед! Надо же, а я принял его за сопровождающего эшелон солдата. Думаю, чего это он забрался сюда, может, хватил лишка да решил проветриться, а, может, поссорился с товарищами да ушёл от них? Зачем же пломбу срывать! − сердито подытожил он.
Приподняв мой подбородок, спросил строго: «Ты чей? Как сюда попал?» Я молчал, тогда он сказал: «Ладно, партизан, скоро узловая станция, там тебя сдам милиции, и ты как миленький всё им расскажешь, пошли!» Он повёл меня, держа крепко за шкирку.
Поняв, что дело плохо, я лихорадочно стал придумывать версию своего путешествия.
Мы пришли в теплушку, и я сходу взмолился: «Дяденька, не отдавайте меня в милицию, я еду к бабушке из Колтубановки в Переволоцк. Она старенькая и больная. Мама умерла, а на билет у меня нет денег. Опустите, пожалуйста!»
Дядька уже не так сердито, как вначале, присмотрелся ко мне, потом усадил за стол и резюмировал: «Да, я смотрю, ты небогато одет, прямо скажем, очень даже бедновато. Худой какой, только что-то мне не верится, что ты вот так совсем один. Должны же быть в Колтубановке родственники, соседи. Неужто, все бросили тебя, и пришлось таким образом добираться до бабушки?»
Между разговором он достал гранёные стаканы с подстаканниками из шкафчика, мешочек с колотым сахаром, появились сушки и чёрный хлеб с салом, баночка домашней сметаны. Из закопчённого чайника полился заваренный чай.
− Садись, перекуси, небось, кишка кишке бьёт по башке? – хохотнул он грубовато, но я почувствовал к нему расположение. − Я не расслышал, куда ты направляешься?
− В Переволоцк, − напомнил я, решив говорить хотя бы частично правду, не хотелось, чтобы меня высаживали раньше или позже.
Дядька почесал затылок и немного подумав, сказал:
− Не сходится, сынок. Состав формировался в Бузулуке, а Колтубанка за тридцать вёрст до него. Ну-ка, давай честно. Я знаю, что в Елшанке есть детский дом, вот на его обитателя ты больше всего смахиваешь. Меня не проведёшь на мякине, я в этих местах родился и прожил почти всю жизнь, не считая войны... Если честно расскажешь, я может, что-то для тебя сделаю.
Дядька был пожилым, кряжистым, но с добрым лицом, побитым оспой, особенно нос. Одет он был в железнодорожную старенькую форму, усы висели совсем седые, опущенные вниз, как у запорожца, лоб был сильно изрезан глубокими складками морщин. Он улыбнулся мне обезоруживающе-близоруко, как бы подбадривая, и я решил, будь, что будет, расскажу всё: что еду к брату из детдома, что не хочу там больше жить, поскольку нет на свете справедливости…
По мере того, как я рассказывал, самому вдруг остро открывалась нелепость моей затеи: вряд ли меня кто-то ждёт по месту прибытия…
Я чётко представил себе лицо жены брата, которая, если честно, ко мне не очень благоволила, в итоге это стало причиной нашей с младшим братом «ссылки» в детский дом. Вспомнил про Славку, как его мачеха ставила в угол коленями на горох за какую-то провинность, и решил, что моё возвращение ничего хорошего не сулит. А в детдоме, как братишка будет без меня? Поняв всю бесперспективность своего вояжа к родным, я сник. При мысли о брате, у меня произвольно закапали слёзы.
− Ну-ну, что ты, не плач.
− Да Славку жалко, я бросил его в детдоме, даже не сказал, что поехал домой… При слове «домой» у меня вновь всё внутри сжалось, и я уже не сдерживаясь, заскулил, словно бездомный пёс.
Дядька всё прекрасно понял, приблизился и погладил меня по голове, неловко приобнял и предложил:
− Слушай, сынок, я понимаю, что тебе несладко в детдоме, может, тебе всё же вернуться, а? − Я кивнул головой и вновь непрошеные слёзы покатились по щеке. − Тогда придётся всё-таки передать тебя милиции.
Видя испуг, метнувшийся в моих глазах, он успокоил: «Ты не боись, паря, хуже не будет. Я передам тебя нашим ребятам в Новосергиевке, всё им объясню. Они свяжутся с милицией и в аккурат доставят куда надо, то есть в Бузулук. Тебя твои даже не будут ругать, я попрошу, чтоб и не наказывали, хорошо?»
Он будто советовался со мной, и я проникся к нему доверием окончательно.
Всё так и произошло. В Новосергиевке на узловой станции поезд остановился, и он отвёл меня в теплушку на железнодорожных колёсах, стоявшую в тупике на рельсах у дальнего конца перрона. Нас впустил к себе сонный мужчина. Я простился с добрым дядькой, так и не узнав его имени, залез на полку и сразу отключился. Утром, когда проснулся, меня отвели в линейное отделение милиции при железной дороге.
Невольно слушал переговоры дежурного по станции милиционера по телефону, между его телефонными разговорами, мне пришлось подтвердить, что я из детдома, назвать свою фамилию и директора, потом пришлось ещё посидеть на жёстком кресле в кабинете милиции, но недолго. Меня подсадили в проходящий поезд к сопровождающему состав милиционеру. Ехали в обратную сторону мы днём.
Снова Бузулук, отделение милиции, ожидание…
За мной приехала Трёшка, наш завуч, так мы её звали за глаза. Время стёрло в моей памяти её настоящее имя и отчество, кто ей дал такую прозвище, я не помню, но оно точно связано с деньгами. Сильно картавя, Трёшка однажды произнесла: «Тли лубля». И прозвище тут же приклеилось.
Трёшка была горластой и вредной, дети её не любили, но вынуждены были подчиняться, ведь воспитателей, как и родителей, не выбирают.
Вопреки заверению дядьки, завуч набросилась на меня с угрозами, обещая устроить «хороший приём» на месте. Милиционер урезонил её, и она прикусила язык.
В детском доме неожиданно меня встретила Аннушка, она ни о чём не спрашивала, наверняка уже зная о выходке своего любимчика. Видимо, моё исчезновение и звонок из милиции в детдом порядком встревожил руководство. Дети жили в свободном режиме, пропадали на речке, в лесу, почему-то это никого сильно не тревожило. Может меня и не хватились до звонка из города?
Пообещав мне, что всё будет как прежде, Аннушка обработала мне потемневшие ссадины и кровоподтёки, сказав, что все в детдоме очень переживали за меня. Она попросила, чтобы я не таил на обидчика злость, он уже раскаялся в содеянном и пообещал, что больше никогда этого не повторит.
Я не очень-то поверил ей, но не хотел расстраивать и пообещал забыть эту историю.
Потом я нашёл братишку, у него было всё нормально и это меня успокоило окончательно. Друзья, услышав мою эпопею, удивились, − прошёл слушок, что я что-то натворил и поэтому сбежал. Они предложили накостылять обидчику, но я попросил их этого не делать. Конфликт закончен, мне не хотелось расстраивать нашу Аннушку. Детский максимализм, когда любимый человек должен принадлежать только тебе в данном случае был не совсем оправдан со стороны Анохина, но он тоже защищал своё как мог.
Аннушка на самом деле любила многих и не формально, но всех любить одинаково нельзя, я это подсознательно понимал. Она руководила в детдоме нашим духовым оркестром, и нас всех связывало уже что-то гораздо большее, чем любовь к музыке. Нам она приносила свои плюшки, относясь ко всем максимально заботливо и тактично. Детей у неё не было, поэтому, вспоминая теперь наши прошлые отношения, я понимаю её маленькую слабость...
КОЕ-ЧТО О «ВЕЛОСИПЕДЕ» И «ТЁМНОЙ»
Сколько обид, неоправданной жестокости порой приходилось испытывать в детдоме от сверстников и ребят постарше. Пресловутая «дедовщина», наследие советской эпохи, не минула и детские учреждения. В детдоме «старики» заставляли прислуживать, но среди них, к счастью, явных лидеров не выделялось, кучковались группками по интересам. Может от безделья иногда соперникам устраивали ещё «тёмную», «велосипед», «душевую».
«Тёмную» делали так: ничего не подозревая, человек заходит в спальню, и вдруг на голову падает одеяло. Пока он пытается скинуть завесу, на него наваливаются несколько добровольцев и лупят кулаками куда придётся. Выбиваясь из сил, несчастный начинает задыхаться, и перестаёт сопротивляться, тут вскоре всё и прекращается. Стянув с головы одеяло, пострадавший видит, что рядом никого нет, все сидят, лежат со скучающим видом на своих койках. Он понимает, что бесполезно выяснять отношения, и… делает вид, что ничего не произошло.
Я тоже однажды был подвергнут подобной экзекуции. Это считалось в порядке вещей: вчерашние твои приятели могли просто позабавиться, сделать тебе проверку на «вшивость».
Ущерба большого «тёмная» не приносила. Но боже упаси, если кто побежит к воспитателю жаловаться, он станет парией в коллективе. И дело не в том, что он не может указать на виновных, ябедничать считалось у нас смертельным грехом.
А ещё в детдоме устраивали иногда «душ». Подвешивали тазик с водой над дверью, входящий, открывая её, переворачивал таз на себя, обливаясь с ног до головы. Попасть под «душ» мог любой, здесь не было конкретного умысла.
Кроме «душа» была ещё одна «забава» − «велосипед». Обычно это делалось ночью храпунам. Те, кто «доставал» своим богатырским храпом, ночные «мстители» вставляли между пальцами ног свёрнутые бумажки и поджигали. Эффект очень болезнен. Огонь обжигал ноги, сонный ничего не понимая до поры, начинал брыкаться так, будто крутил педали велосипеда. Под общий хохот или наоборот – гробовое молчание, жертва выскакивала в проход меж кроватей, подпрыгивая, спешно выдёргивая горящие бумажки. Вытащить спросонья их не сразу получалось, тем самым продлевались мучения, в итоге – сильные ожоги. Этот жестокий урок надолго отбивал желание храпеть, в мозгу что-то срабатывало, и «метод» оказывался действенным… Такому испытанию подвергали обычно новичков, на кого словесные увещевания не действовали. Разборка: кто и за что устроил «велосипед» не давала результата, да и не до того было – скорей бы выскочить в коридор в умывальную комнату, остудить холодной водой жжение в ногах, после, поразмыслив, понимаешь, что разбираться бесполезно.
Сердобольный читатель, наверно, возмутится такими дикими нравами, царящими в нашей волчьей стае. Я вполне разделю его негодование, но такие штучки практиковались и в армейской среде. Помню, в бытность моей службы, в казарме устроили парню «велосипед» за то же самое. И подействовало. Жестоко? Да, но что делать, спать-то тоже хочется, а слова не помогают. Это было принято не нами…
Начало шестидесятых, эти годы прокатились хрущёвской оттепелью, реабилитацией многих заключённых, выходили на свободу осуждённые, несущие свой менталитет и порядки в обычные сферы жизни. Так или иначе, это коснулось и детских учреждений.
Держали нас в детдоме до окончания восьмилетки, затем устраивали в ПТУ или ФЗО, короче говоря, в различные училища для получения профессии, где порой ещё жёстче бывшие воспитанники детдомов и интернатов распространяли свои навыки, насаждая «родимые пятна» социализма.
Выбора у нас не было, но в тоже время это был шанс для получения нормальной профессии, хотя многие из моих однокашников не выдерживали испытаний, искушений и влияния блатной среды, и попадали в ещё более суровые условия – места заключения.
Я избежал этой участи. После восьми классов меня забрал к себе старший брат, я смог продолжить учёбу в вечерней школе рабочей молодёжи в родном посёлке, где устроился на Механический завод учеником токаря, начав трудовую биографию.
ГЛАВА II
МОИ ВРЕМЕНА ГОДА
ЗИМОЙ
Зимы у нас на Урале были всегда снежные, настоящие. Наваливало порой под самые крыши. Мы любили прыгать с крыш детдома или с крыши уборной головой прямо в сугроб.
Кстати, о туалете и удобствах. Их у нас в детдоме не было, ни душевых, ни ванных комнат, ни тёплых туалетов, как теперь в городских детдомах, да и в сельских теперь всё наверняка изменилось. Умывались по утрам в общей комнате над раковинами, вода была только холодной и зимой и летом.
На общую помывку нас водили в сельскую баню раз в месяц. Там выдавали каждому цинковые тазики и кусочек мыла с мочалкой, кажется, на троих. Через двадцать минут заходила воспитательница и поторапливала всех, чтобы споласкивались и освобождали помещение для других.
Летом мы купались в Самарке – так мы называли реку Самару, этого было достаточно для нашей гигиены, так, видимо, считали наши опекуны.
В туалет летом и зимой бегали за сто метров в отдельно стоящее деревянное сооружение мрачного вида, куда страшновато было ходить в тёмное время суток. Однажды кто-то из ребят, шутки ради, подкараулил меня (мог быть и не я) в тёмном «предбаннике». Я лишь зашёл, и тут он как гаркнет страшным голосом, метнувшись в мою сторону!
Помните – фильм «Джентльмены удачи», когда сначала Крамаров Вицина, а потом присоединился Али Бабаевич, − тёрли друг друга снегом, потешно крича. Я тоже заорал благим матом от страха. Слава Богу, заикой не стал...
Так вот с этого сооружения мы прыгали, «ныряя» в сугроб, а потом пытались выбраться. Ребята откапывали со смехом незадачливого «утопленника», если он не мог выбраться сам.
В палисаднике за детдомом и в огороде, где летом рос лук, чеснок и другая зелень для обеденного стола, мы с ребятами делали ходы под снегом. Ходы были разветвлёнными, с комнатами. Мы гребли фанеркой, как кроты, вгрызаясь в слежавшийся пласт снега. Вспоминаю то время и поражаюсь нашей неугомонности. Мы не замечали холода, одежонка была плохонькая, иногда отмораживали себе уши и пальцы, но это нас не останавливало.
А то двинем на реку играть в хоккей. Вместо шайбы – консервная банка, вместо коньков – старенькие ботинки, надетые на дырявые носки. Излишек мальчишеской энергии заменял валенки и ватники.
Бывало, проваливался кто-то под лёд, все дружно бросались на выручку товарища. Не обходилось без простуд и воспалений лёгких. Но за весь период моего пребывания в стенах данного казённого заведения, как ни приходилось тяжко, у нас не погиб и не покалечился серьёзно ни один воспитанник. При этом львиную долю своего времени мы были предоставлены сами себе, и о технике нашей безопасности заботился лишь один Господь.
Набегавшись зимой по улице, я забивался в одну из классных комнат, где в отведённые часы мы готовили уроки, и где стояли круглые печи-голландки. Я протискивался в узкий промежуток между стеной и печкой. Печи протапливал рано утром рабочий-печник дровами и углём, они слабо обогревали большие помещения. В коридорах гулял сквозняк, было холодно. Тепла от металлического, крашеного чёрной краской остова печки едва хватало для измёрзшейся детской души. Я обнимал печь, как мать родную, блаженно предаваясь своим мечтам.
Потом в детдоме провели паровое отопление, печки остались как экзотика, но в сильные морозы их подтапливали, и тоже можно было погреться после уличных гулек и игр.
Помню, как детдомовское руководство впервые для воспитанников закупило лыжи, это было уже новое веяние. Раньше, кроме шахмат, шашек да книг, нам в свободное время практически ничего не предлагалось.
Село находилось под самой кручей высокого взгорья, словно плато, возвышавшееся над долиной у реки. С него ни на санках, ни на лыжах не скатишься – расшибёшься. Но мы находили приемлемые спуски за селом. Одна лощина подходила для лихого спуска – слалома (этого словечка мы тогда не знали). Было рискованно, но это и привлекало как соревнование в ловкости. Крутой спуск, и сразу в самом низу лощину пересекал гребень − небольшой глиняный откос. Проскочить это место можно было только на одной лыже. Если не успеешь поднять на тридцать-сорок сантиметров левую ногу над гребешком, падения не избежать. Я как-то зазевался, и лыжа вонзилась в мёрзлый суглинок гребня. Нос лыжи отлетел, а я кубарем покатился дальше, поломав при этом ногу.
Радости зимы в этот год для меня закончились, похрамывая в гипсе, с завистью посматривал на своих сверстников, которым всё было нипочём. Нога срослась хорошо, и на следующую зиму я снова засмаливал с этой горки, как ни в чём не бывало.
Зимой много времени занимала учёба, уроки. Мы учились в сельской школе вместе с деревенскими. Её двухэтажное здание стояло через дорогу от детдома. И хотя учились мы вместе, но сидели на разных партах, почти не общались на переменах. Мы словно инкубаторские, были одеты в х/бэшную одежду, это неравенство проводило незримую черту между нами. Сельчане с нами держались настороженно, нам казалось, что к нам они относятся
свысока.
Иногда между нами возникали конфликты, даже драки стенка на стенку. Но мы были более организованы, и сельчане нас побаивались, лишний раз «не нарывались».
* * *
Не знаю, к чему, но вспомнился случай про крыс.
Они расплодились в неимоверном количестве, бегали средь бела дня в наглую, пугая малышню и женщин. Видимо, что-то им благоприятствовало, может год такой, а может на кухне стало оставаться больше отходов, их не успевали уносить своим свиньям наши повара и воспитатели. Детдомовские кошки тоже не справлялись с обязанностями, и мы решили устроить на крыс охоту, точнее, рыбалку… Мы решили устроить на них охоту, точнее, ловлю, а ловили этих тварей на территории детдома среди огромной кучи досок, лежавших много лет во дворе. Доски завезли давно на какие-то хозяйственные нужды, приобретали с запасом, как это у нас обычно бывает, − в хозяйстве сгодится.
Обыкновенными удочками насаживали на крючок наживку − кусочек жареного мяса или корочку хлеба, садились на доски, а наживку закидывали куда-нибудь в укромный уголок между досок. Крыса хватала добычу, и мы, подсекая, как рыбу, с трудом тащили эту фырчащую длиннохвостую тварь, упирающуюся и злобно кидающуюся на ловца. Иногда крыса обрывала леску, что огорчало, но мы переловили их немало, поубавив «народонаселение», за что удостоились благодарности самого Сидора Ивановича.
К слову о кухне, я вспомнил одно из своих дежурств, поскольку старшеклассникам вменялось помогать поварам и это мы делали по графику.
Вот где была лафа − можно наесться, наконец, до отвала. Однажды наступила моя очередь, а в меню были голубцы.
До обеда я чистил картошку, подносил-выносил продукты и отходы, выполняя все приказания двух поварих, работающих постоянно сельских женщин. Ну, а в обед за хорошую работу позволяли есть от пуза – сколько влезет. С непривычки я переел жирных голубцов и впервые узнал, что такое несварение желудка. С тех пор я не люблю голубцы …
Милые и курьёзные мелочи, теперь об этом вспоминаю с ностальгией, тогда же не всё воспринималось так однозначно…
ЛЕТОМ
В летнее время бывало гораздо больше мальчишеских радостей. Мы на это время перебирались в лагерь, стоявший в живописном месте, в двух-трёх километрах от села в лесу, недалеко от Самары.
Лагерь славно вписался между двух холмов у небольшого безымянного ручья, протекавшего в глубоком овраге. На ровной природной площадке были построены бараки − побелённые деревянные строения, в которых также не было удобств. В помещениях, на время нашего пребывания, устанавливались панцирные кровати, прикроватные тумбочки и вешалки для одежды.
Рядом стоял девичий барак, к которому была пристроена кухня и столовая: навесная крыша на подпорках – деревянных столбах, с перилами и балясинами, в столовой в два ряда стояли грубовато сколоченные столы, покрытые скатертями, у столов − лавки.
Девочки жили в небольшом бараке, потому что их было раза в два меньше, чем ребят, питались и трудились мы вместе. Вместе убирали территорию, работали дежурными по кухне, столовой и огороду. В свободное время мальчишки были предоставлены сами себе: бродили по лесу, собирали ягоды, пропадали на речке.
С девчонками неусыпно находились воспитательницы, отдельно водили их купаться на реку, но редко.
Что они делали летом в свободное время, я не знаю, наверно их учили вышивать, заниматься домоводством, потому наши интересы в корне не совпадали. Девчонки для нас были как окружающая природа, которая есть, но сама по себе, мы жили совершенно другими интересами. Не факт, что наши интересы лучше, важнее, но такова природа женского и мужского начала. Однако, рано или поздно эти стихии вдруг начинают замечать противоположное себе и их начинает тянуть друг к другу. В ранний период не всегда с добрыми намерениями. Помню, как один пацан поймал пчелу за крылышки на цветке и, не мучась сомнениями, сунул её за шиворот одной пигалице. Пчела сделала своё дело. Было много визгу, слёз и конечно нехороший «рыцарь» получил по заслугам: мыл месяц уборную.
Я однажды поймал маленького ужонка у которого, как известно, жёлтые полоски на голове. От него противно пахло, но потом запах прекратился. Посадив ужа за пазуху, я подходил к девочкам и отворачивая край рубашки, показывал симпатичную головку пресмыкающегося, он высовывал свой язычок, а девчонки почему-то визжали от страха, наверно думая, что это змея.
Эта безобидная штука мне стоила внушения со стороны Аннушки, наказания на этот раз я избежал.
Тогда не было телевидения, интернета, влияющих на всеобщее половое просвещение… Дети были в этих вопросах более целомудренней. Я интересовался противоположным полом на уровне художественно-приключенческой литературы. Иногда вспоминалась бывшая соседка Людка с Дальнего востока. Теперь я понимал гораздо больше и начинал задумываться серьёзнее об отношениях мужчины и женщины...
Просто мы росли, начинали замечать особенности и отличия у тех, кто рядом с нами – с косичками и некоторыми выпуклостями, там, где у нас их нет…
Сначала мне приглянулась девчонка по имени Света, она не зажималась, как большинство, легко общалась с мальчишками, иногда немного кокетничала, или нам это казалось... Она была раскованней других, это нравилось некоторым пацанам, они, пообщавшись, любили потом приврать дружкам об своих «отношениях».
С девчонками я был очень робок и только со стороны поглядывал, не решаясь, как некоторые, подойти и заговорить. Я совершенно не мог представить себе – о чём с ними можно разговаривать. Другие же запросто подходили, болтали о пустяках, а то и обижали девочек какой-нибудь выходкой, грубостью. Были и такие, кто , видимо,созрел для заигрывания, непринуждённого трёпа со сверстницами. Кто-то на спор попытался приударить за Светкой. Ребята резонно сомневались в способностях новоявленного Дон Жуана, но рады были почесать языки, поболтать на тему, о которой пишут в романах, где герои влюбляются и красиво борются за своих прекрасных дам. В тесном «мужском» кругу мы обсуждали девчоночьи прелести, не стесняясь в выражениях, часто нарочито грубо, с матерными словами. Некоторые из нас имели опыт, наблюдая где-то ранее за взрослыми людьми, рассказывали скабрезные анекдоты и случаи из их жизни. Так происходило наше самообразование в вопросе полового воспитания…
Позже мне понравилась девчонка Таня П., я украдкой поглядывал на неё. Иногда казалось, что ей я тоже не безразличен. Может, просто казалось, я не знаю, но было приятно мечтать о возможном развитии событий…
Четырнадцать лет – воображение рисовало романтические картины, первые влюблённости будоражили кровь. Это находилось где-то глубоко в душе, оно было ещё непонятно и немного пугало.
Вечерами я много читал. В приключенческих мирах видел себя Следопытом, золотоискателем, путешественником, переносился в далёкие прерии дикого Запада, в бесконечное Белое Безмолвие Лондоновского Клондайка, с неохотой потом возвращаясь в реальность, в свою детдомовскую жизнь.
* * *
Основную часть земельных угодий, на которых стояли наши деревянные строения, занимал большой огород. С северной стороны протекал ручей в овраге. Его перегородили запрудой. От дамбы арычной системой распределялась вода на огород, где мы выращивали овощи.
Поле под огород вспахивалось на тракторе, отбортовывались гряды. На гребнях сажали картошку, капусту, помидоры, огурцы. Водой из запруды орошалась корневая система растений. Это делали закреплённые за огородом воспитанники, которые следили за поливом, направляя к месту орошения потоки воды с помощью заслонок. Заслонки − закруглённые в нижней части металлические листы с деревянными ручками, шириной с полметра.
Чтобы изменить направление воды, надо было с силой вонзить заслонку между двумя буртами, отсекая поток и направляя воду по поперечной канавке в другое русло. Жидкость заполняла канавки, питая корни растений.
Работы шли на поливе с утра, пока солнце не оказывалось высоко над деревьями и не начинало жарить во всю мощь.
Всё лето мы бегали босиком (в обуви было как-то неудобно, непривычно) на реку, по лагерю или по лесу, разутые трудились и на плантации.
Трудился с нами мальчишка по имени Серёжа − божий одуванчик – слабенький, малого росточка, к тому же без глаза, потерял он его где-то до детдома. Мы его не обижали, почему-то жалели. Он страсть как любил огородное дело, наверно в нём дремал прирождённый агроном. Вставал Серёжка рано каждый день вместе с другими, назначенными на работы по огороду для полива овощей.
В один из дней я тоже был дежурным по огороду и находился неподалеку от Серёги. Нас было четверо, мы почти заканчивали полив, притомились, хотелось бежать на речку, купаться, рыбачить, ловить раков. Вдруг послышался крик. Оглядываюсь, Серёжка сидит на грядке, обхватив ногу руками, скорчился, раскачиваясь из стороны в сторону, закрыв глаза и закусив губу. Подбежав, спрашиваю: «Серый, что случилось?» Сквозь стон и слёзы он что-то промычал. И тут я увидел, что между его пальцами, державшими стопу, сочится кровь, рядом валяется заслонка.
«Что с ногой?» − спрашиваю, на секунду он отнял руку. Всё было в крови и жидкой грязи − ничего не разобрать.
Я позвал ребят, сам помчался в медпункт за Аннушкой. Из моего сбивчивого рассказа она поняла лишь то, что Серёга что-то себе оттяпал…
Аннушка поспешила за мной. Обрабатывая рану, приказала держать Серёгу за руки. Он не сопротивлялся, но увидев, что на покалеченной ноге нет пальца, сначала завыл, потом потерял сознание.
Аннушка дала ему понюхать нашатырю. Очнувшись, Серёга уже не смотрел на действия фельдшера, но, увидев белую повязку бинта, вспомнил про свою утрату и стал кричать: «Где мой палец? Найдите мой палец!..»
Мы стали искать этот злополучный палец, но он будто сквозь землю провалился.
Нужно было срочно тащить Серёгу в медпункт, а он не хотел, кричал истошно, чтобы мы нашли его палец….
Всё-таки мы отнесли его на руках в медпункт, и оставили на попечение Аннушки.
Ясно, что от сильного удара палец глубоко застрял в земле, искать его не было смысла. Не искушённые в вопросах психологии в стрессовых ситуациях, нам непонятно было странное желание Серёги – вернуть то, что навсегда утрачено. Добросовестно перерыв в этом месте землю, палец мы не нашли, скорее всего сами же и затоптали невзрачный обрубок.
С забинтованной ногой Серёжка почти всё лето просидел на лавочке у барака. Первое время нога у него сильно болела, он, держась за перебинтованную стопу, натурально выл, раскачиваясь взад-вперёд. Не знаю, почему его не отправили в больницу. Я не помню ни одного случая, чтобы кого-то куда-то отправляли из-за травм, но Аннушка, была фронтовой медсестрой и, видимо, знала, что делала. А делала она всегда простое и необходимое. Уколы, таблетки, а чаще – йод да зелёнка – самое первое средство. В конце концов, с Серёжкой действительно всё обошлось благополучно.
Одно казалось удивительным в этой истории, то, как заслонка шириной в полметра смогла отрубить на маленькой ножке безымянный палец? Остальные − остались целы, разве что кожу и мякоть поранило. Мы потом долго обсуждали этот случай, а над Серёгой не зло подшучивали: «Ну что, Серый, на следующий год, гляди, − вырастет дерево-нога, а на ней много-много новых пальцев, бери любой…» Он тоненько хихикал, а мы ржали, довольные, что товарищ не обижается.
А вот еще эпизод, случившийся с ним в другое лето.
Одно время мы с ребятами взялись мастерить поджиги. Это такие самодельные пистолеты-полуобрезы. Техника их изготовления не сложна, многие пацаны в наше время грешили этим. Да и в наше время недавно в СМИ промелькнуло сообщение, что один мальчишка погиб от разрыва трубки-ствола…
Упражнялись в стрельбе мы в лесу, метясь и стреляя в доску с нарисованными кругами. В один из таких дней всё вроде шло нормально, но вдруг у Серёги от выстрела разнесло трубку и чуть не оторвало ему большой палец на правой руке. Трубки были медные, заряд же из спичечных головок и свинцовой дроби делался на глазок…
Аннушке снова пришлось спасать беднягу.
В связи с травмой от поджига, нами серьёзно заинтересовался директор, он провёл своё внутреннее расследование. Всем пацанам крепко влетело, Сухарь не на шутку испугался за последствия нашего увлечения. Он долго нам втолковывал, что на войне много раз видел убитых и раненых, но там это была не игра, не забава, а суровая необходимость сражаться за свободу, за жизнь миллионов соотечественников, за Родину, наконец.
Мы начинали понимать его тревогу, но он искал и хотел зачинщиков для наказания, а это уже совсем другое дело.
Серёжка же держался мужественно и не выдал никого, но Сухарь знал, что зачинщики есть всегда − старшие, но кто… они разве сознаются?
От поджигов нам пришлось отказаться, директор приказал загрузить всех трудотерапией по максимуму и мы отрабатывали свою вину кто на огороде, кто в столовой.
Я в это время с двумя парнями был определён к завхозу Николаю Ивановичу косить сено для наших коров. У нас это неплохо получалось.
Но ещё немного о бедном Серёге и не только о нём. В другое лето его укусила лесная пчела, под вторым глазом. Невезучий был пацан. Он опять оказался в неподходящем месте...
Лесные пчёлы завелись в дупле дерева, росшего в русле ручья, перекрытом плотиной. Рядом с пчёлами в нескольких метрах находился вход в наш барак. К тому же рядом стоял колодец, из которого брали воду для умывания по утрам, заливая её в рукомойник.
Пчёлы жили своей жизнью в опасной близости от нас, но до поры никого не трогали. Мы же стали побаиваться, мало ли… Взрослым ничего не стали говорить, привыкли решать свои проблемы сами.
Задумались, как выгнать это семейство, поскольку само оно не покинет дупло. Я предложил выкурить их, намотав на палку тряпку, облитую керосином. Где-то я читал или слышал о таком методе.
Инициатива наказуема, в результате пришлось исполнять собственный план. Чтобы самому не оказаться жертвой карательной операции, на голову и спину я накинул фуфайку. Дупло находилось чуть выше моей головы. С опаской, потом смелее, я принялся за дело. Пчёлы долго не реагировали на мой выпад. Может, я не доставал до них, но, скорее всего, горящей тряпкой перекрыл им выход. Пошурудив некоторое время палкой, всунутой в дупло, опрометчиво вытащил её и вскоре услышал зловещий гул. Дикие пчёлы, как мессершмиты, вылетали и вылетали, кружась, как угорелые (а ведь это не сравнение, фактически они и были таковыми) у отверстия и вокруг моей головы.
Одна, затем другая, третья − с силой стали ударять о ватник, в мою ненадёжную защиту. Пора ретироваться, к тому же с ужасом я вспомнил про открытые ноги... Не выдержав, побежал вдоль оврага, потом выскочил на противоположный склон. Дальше путь шёл в сопку, лучше было бежать вдоль сопки по лесу. При беге мелькали голые икры, пчёлы безошибочно находили мишень, давая выход праведному гневу …
Не помню, как бежал через лес, бросив мешавшую фуфайку, меня хлестали ветки по лицу. Наконец, я оторвался от своих злобных преследователей. Сделав приличный круг по лесу, вернулся с другой стороны того же оврага к ребятам, спрятавшимся в корпус спальни за дверью. Меня впустили внутрь, где с трудом переведя дыхание, почувствовал, что икры ног нестерпимо горят.
Когда все успокоились, стали думать, как мне помочь, кто-то предложил полить укушенные места холодной водой из колодца, чтобы уменьшить жжение от укусов. Но у колодца наверняка ещё находятся пчёлы…
Приоткрыв дверь, ребята убедились, что пчёл нет. Значит, я не зря пострадал, и они покинули дупло!
Летучие фурии так и не вернулись на прежнее место обитания. Может я испортил им жилище своим вонючим факелом, а может просто оказались умнее нас…
Удивительное дело, но выяснилось вскоре, что есть ещё один пострадавший, это – Серёжка, тихо лежавший на своей кровати, зажав укушенную бровь. Каким образом попал он под раздачу к обозлённой пчеле, он и не мог объяснить. Одна шальная, видимо, вылетела на противоположную сторону и нашла нашего Серенького. Здоровый глаз у него заплыл, и мы боялись, что он ослепнет. Но, слава Богу, всё обошлось, опять не без помощи Аннушки…
Вздувшиеся икры ног я поливал ледяной водой, которую ребята таскали из колодца. Слава «безумца храбрых», бросившего вызов лесным пчёлам, придавала мне стойкость и помогала терпеть жжение, но на другое утро у меня онемели ноги, сделались ватными и плохо слушались при ходьбе.
Я не стал обращаться к помощи Аннушки, не успел. Она, как тайный заговорщик нашего «масонского ордена», лечила нас, но и ругала постоянно за наши выходки, по возможности не выдавая нас начальству, то есть мужу-директору. Мальчишки, есть мальчишки: выслушав наставления, мы тут же всё забывали и готовы были идти на новые «подвиги».
Не успел я к ней обратиться, потому что на следующее утро приехал старший брат на служебной «Волге». Он увёз меня в Переволоцк. Помню, в долгой дороге мне было плохо, тошнило, мы останавливались, отдыхали и ехали туда, куда я сам ещё недавно готов был лететь на крыльях!
У Виктора со снохой появилось желание забрать меня к себе и устроить на работу, потому что мне исполнилось шестнадцать лет. С младшим братишкой мы разлучились надолго. Позже он был направлен в училище, учиться на сварщика в Казахстан – соседнюю республику, закончив, работал по профессии, служил в Армии, вернулся на родину и от неустроенности и неприкаянности женился на одной вдовушке с двумя детьми.
По этому случаю, Виктор прислал мне паническое письмо о том, что Славку «захомутала многодетная бабёнка», и его надо спасать.
К тому времени я женился, отслужил в Армии, у нас с женой было полно своих проблем: работа, маленький ребёнок. Я не знал, что предпринять и в горячности дал телеграмму, вызвав брата к себе.
Когда он приехал, я предложил ему остаться в этом сибирском городке. На удивление, он не стал возражать, устроился на работу, получил общежитие, вскоре нашёл замену бывшей пассии, женился и жил с ней до самой её смерти. Они вырастили троих сыновей. Брат работал сварщиком, потом водителем в одной организации, где работает и поныне.
Владислав любит рыбалку, трудится на даче, продолжая работать на пенсии. Дети выросли, он, как и я, давно уже дедушка. Так и живём поврозь уже более тридцати пяти лет…
Из всей этой истории у меня остался осадок на душе, что я невольно вмешался в его жизнь. Имел ли я на это право?.. Не знаю, но так распорядилась судьба. В спешке у той первой его женщины остались фотографии матери и отца, другие документы, что оказалось невосполнимой для нас утратой. Только три фотографии из детства сохранились у меня − подарок Виктора, вот и весь наш семейный архив.
* * *
В главу «Лето» можно условно включить события, происходящие у нас в разные годы в летнее время. Хронология событий в голове осталась весьма условной, но это и не главное. Важно, что именно больше хороших событий обычно происходило летом, потому что лето, это – купание в реке, сказки зелёного леса, неожиданные находки и открытия, интересные приключения, в которые мы попадали постоянно или устраивали себе сами.
Одно лето мне вменили в обязанность пасти наше небольшое детдомовское стадо. Несколько коров приобрели в колхозе для нужд детдома, добавив нам хлопот по их содержанию, зато нам прибавилось в рацион питания молоко, растущим организмам это весьма полезно.
Бурёнок надо было кормить, доить ухаживать, это делали старшие девочки под руководством воспитательницы. Будучи деревенскими, «воспиталки», как мы называли их, дома содержали всяческую живность, и это не стало ни для кого большой проблемой.
С дружком Витькой Садчиковым мы пасли коров на близлежащих полянах у леса. Наша смена выпадала через день − от зорьки до вечера. Другие дни пасли бурёнок сменщики, мы же отдыхали. За этот труд давали поблажку – в свободные дни мы опять же могли хоть целый день купаться в реке, ловить рыбу, раков, чем и пользовались в полной мере.
Одно неудобство с этой пастьбой − надо вставать с восходом солнца, в то время как другие ребята продолжали сладко сопеть на своих подушках. Поднимала пастушат дежурная воспитательница. В лагере все воспитатели − женщины, кроме завхоза да баяниста культмассовика, выходца из наших же детдомовских. Дежурные ночевали в девичьем корпусе. Ответственная за наш корпус находилась в мальчишечьем корпусе, коротая время на такой же кровати, как мы и присматривая за порядком.
По утрам мы, полусонные, выгоняли коров из-под навеса и направляли их на полянку в окружающий лесок. Один посматривал за животными, другой сладко додрёмывал, пристроившись где-нибудь на травке, не смотря на утреннюю прохладу и обильную росу. Часто караульщик засыпал, потом приходилось искать коров, бегая по лесу, благо, они далеко не уходили. Гнуса среди деревьев и на полянах почти не было, коровы смачно хрумкали росную душистую траву, а мы блаженствовали на солнышке или в тени, болтая о своих пацанячьих делах. К обеду пригоняли коров на дойку, подкреплялись и вновь гнали пасти своё небольшое стадо до позднего вечера.
* * *
В свободные дни, как я уже сказал, ребятня проводила время на речке, часто загуливаясь допоздна, не успевая ко сну. У нас не было, как в армии, утренних и вечерних поверок, в суматохе всё сходило с рук. В шестидесятые годы, годы установившейся стабильности, страна не забыла, что такое терроризм, бандитизм, не было и такого современного явления, как киднепинг. Серьёзных проступков, затрагивающих чьи-то интересы, мы не совершали, разве что по садам лазили, ну так кто в детстве из пацанов этим не баловался...
Да, относительно садов и огородов стоит поговорить, это особая статья. В урожайные годы мы доставляли немало хлопот сторожам в колхозном саду, делая частые набеги, унося с собой за пазухой яблоки и ранетки. Главным объектом наших вылазок был сорт медовых яблок. Словно налитые воском, эти яблоки почти просвечивали насквозь. Плоды имели вкус и запах мёда и буквально таяли во рту. Живя теперь на юге, где существует обилие разных сортов, я таких не встречал…
В тот год уродился отменный урожай яблок. Мы, наверно, могли бы придти и попросить у сторожа, но просить как-то не было принято, нам казалось интересней самим добыть желанное лакомство, потом явиться в лагерь с полной пазухой плодов, угощая друзей и девчонок.
Тайком, прокрадываясь в глубину огромного сада, набирали яблок, возвращались, а сколько потом было разговоров, особенно, если приходилось тикать от сторожей.
В таком возрасте, наверно, можно было только закрыть нас под замок, − воспитательные меры и запреты не действовали. Директор, устав воевать с нами, на претензии соседей отвечал: «А вы докажите, что это наши! Здесь других, что ли нет?»
Но в том-то и дело, что дети сельчан не решались лазить в колхозный сад. На нас ополчились сторожа и стали предпринимать ответные меры, пытаясь поймать и наказать для острастки.
Однажды троих, в том числе и меня, поймали. Поймали двоих, а третьим был я, но остался за компанию по понятиям чести. Нас закрыли в сарай на территории сада в сторожке. Вначале этой садовой истории в колхозном саду было только два охранника. Когда один пошёл докладывать начальству, другой в это время, наверно, задремал, мы же, не теряя время даром, разобрали камышовую крышу сарая и сбежали.
Дальше – больше, мы стали входить во вкус. Сторожа явно не справлялись с охраной и им выделили подмогу, а потом и берданки с патронами, вместо дроби в них заряжали соль. Если такой заряд попадал в тело − не сдобровать. Спасало одно лишь средство: долгое сидение в реке, чтобы рассосалась соль.
Получается, нам объявили войну, и мы тоже решили не сдаваться. Предприимчивый «товарищ Жуков», один из нашей компании, называемый нами так, потому что был однофамильцем прославленного маршала, предложил использовать против сторожей верное оружие − поджиги.
К тому времени охрану значительно усилили. Правда или нет, мы слышали, что их штат пополнился до дюжины пенсионеров. Это только раззадорило нас. И вот как-то, вооружившись самострелами, отправились в сад. По прибытии позаботились о тактике и стратегии: распределили роли, выставили дозор.
Пятеро ребят перескочили через ограду, один остался у плетёного забора. Сад занимал несколько гектаров, но нас интересовало одно место – несколько яблонь с медовыми плодами. Поначалу всё было тихо и мы, как водится, увлеклись…
Охрана, умудрённые жизнью люди, были тоже не промах, они устроили нам засаду. Словно черти из табакерки, повыскакивали отовсюду сторожа, стали нас окружать, пытаясь схватить кого-нибудь. Наш дозорный даже не успел свистнуть − предупредить об опасности. Однако, все ребята не промах − кинулись врассыпную, прорываясь к забору.
Сторожа беспомощно расставляли руки, мимо которых ужами проскальзывали юркие мои товарищи. Главное − добежать до плетня, перескочить на другую сторону.
Все благополучно это сделали, но от берданки вряд ли убежишь!
Как в замедленной киносъёмке вижу прошлый эпизод. Перескочил я забор последним. Бежавший предпоследним Жук, вдруг остановился и резко повернулся в сторону сада. Выдернул из-под брючного ремня поджиг, словно ковбой, не целясь, чиркнул коробком о спичку, прикреплённую к пропилу в трубке. Раздался оглушительный хлопок прямо перед моим носом, полетели искры, заволокло вокруг серным дымком, я оглянулся.
Не поспевавшая погоня, бежала к забору, один сторож уже примостился у плетня, положив на неё ружьё как на стрельбище, и стал целиться, наверно, в того, кто бежал последним… Таковым оказался я, но Жук опередил охранника. После его выстрела из поджига, дядька с той стороны плетня рухнул наземь, а берданка свалилась на нашу сторону. Переглянувшись, мы с Жуком кинулись прочь.
Этот случай нам даром не прошёл. На другой день директор построил всех на линейке перед завтраком и сказал:
− Поступила жалоба из правления колхоза о разбойном нападении на охрану сада. Директор колхоза, − напряжённым голосом продолжал Очкарик, − уверен, что это сделали вы − «детдомовские сорванцы». Ранен сторож и находится в больнице.
Он прочёл нам часовую лекцию «о недопустимости бесконтрольного перемещения за территорией лагеря с преступными целями». Предложил добровольно выйти тем, кто участвовал в этом «пиратском набеге», но желающих не нашлось. Тогда, пройдясь вдоль строя, стал выискивать подозреваемых «разбойников и разгильдяев». «Ты был там?» − подходя и указывая пальцем прямо в переносицу, спрашивал директор. Мы, как партизаны, стояли стойко и заверяли, что ничего не знаем, каждый уже придумал себе «алиби». На такие случаи у нас была чётко отлаженная тактика защиты: всё отрицать. Директор был вынужден отступить, так ничего и не добившись.
На следующий день приехал следователь, но и он не сумел получить от нас признаний. Вдохновлённые успешной защитой, мы воспряли. В этом случае чётко проявился воспитанный советской властью коллективный дух. В своём кругу на подобный случай мы заранее обсуждали план поведения, вырабатывая тактику: молчать, всё отрицать, зная, что любое малодушие отразится на нас же карательными мерами…
Беспокоило всех только одно: сторож пострадал. Некоторые ребята не одобряли выстрела Жука. Я же его защищал, известно ведь, кто тогда бы пострадал, успей сторож нажать на спусковой курок раньше...
Жук по большому счёту не нуждался в защите, потому что осуждения его поступка, как такового, не было, а было лишь общее чувство вины, всё-таки пострадал человек.
Но через пару дней директор обмолвился: «Ваше счастье, что сторож отделался лёгким испугом да несколькими царапинами, − дело прекратили. Но знайте, я-то абсолютно уверен, что это ваши проделки. Если что-то подобное ещё раз произойдёт, вы будете сидеть у меня всё лето под замком!»
Такая перспектива нас не устраивала, мы решили пока оставить свои набеги на колхозный сад, тем более что вокруг было немало мест, где также можно было приложить свои способности…
* * *
Частный фруктовый сад – другое дело, но в деревне с хозяевами нам связываться не хотелось, если и приходилось, то делали мы это с большей осторожностью.
Энергии хоть отбавляй, идеи в нас так и фонтанировали, и как-то Толик Раков принёс очередное предложение: «обнести одно классное местечко». В сельском огороде он заприметил рясное деревце с ломящимися ветками от пунцовых ранеток. По его словам, там живёт какой-то старикан, собаки во дворе нет. Пара пустяков перебраться через забор, остальное, как говориться, дело техники.
Дождавшись вечера, Толик, Жук и я подкрались к забору, за которым действительно виднелась шикарная, отягощённая плодами, ранетница. Садик был небольшой, росли вперемешку яблони, груши, по периметру − кустарники со смородиной и малиной.
Вечера ещё стояли довольно долгие, с тягучими тёплыми сумерками в нашей средне-южной полосе. Ночи были светлыми. Для молодёжи это пора танцев, посиделок и прогулок при луне. В этот вечер небо причудливо серебрилось перистыми облачками. Собаки лениво перебрёхивались в разных концах села. День словно отдыхал от зноя в покое и умиротворении.
Мы решили – пора! Задача казалась не сложной. Не раздумывая, пролезли внутрь сада друг за дружкой в узкую щель забора. Я забрался на дерево и тряхнул ветку. Яблочки посыпались на землю, как горох, ребята кинулись собирать падалицы. Увлёкшись, срывая самые спелые плоды и кладя их за пазуху, я вдруг услышал какой-то шум. Совсем рядом раздалась трёхэтажная брань. За моей спиной у калитки сада стоял лысый дедок, на вид ещё довольно крепкий, решительно открывающий задвижку. В руке он держал ружьё, которое через секунду выстрелило вверх. Дед снова сопроводил выстрел нецензурной бранью. Я просто сорвался с дерева, как большое яблоко, а ранетки из-под рубашки рассыпались по земле. Мои подельники дали стрекача, я кинулся следом.
С перепугу, забыл, где та щель, в которую мы проникли в сад. Не раздумывая, перемахнул через двухметровый забор. Не оглядываясь, бросился бежать, петляя в деревенских улочках. Всё время, пока бежал, слышал сзади сильный топот. Кто-то неотвратимо настигал меня, как я ни пытался изо всех сил оторваться от преследователя. Наконец, споткнувшись, упал на живот и тут же перевернулся, готовый защищаться хоть ногами, хоть зубами…
Каково же было моё удивление, когда рядом увидел Тольку Ракова, он тяжело дышал, остановившись возле, словно загнанный конь. Мы долго не могли перевести дух, наконец, он выпалил: «Ну, ты и бегаешь, еле догнал тебя!» И это говорил Толян, наш чемпион по бегу на стометровке. Так, как бегал он, никто у нас не бегал.
Я, по случаю, скромно скажу, что был признан в наших кругах как прыгун в высоту «перекатом». Тогда ещё не был принят повсеместно нынешний стиль «фосбери-флоп» − прыжок спиной к планке. Из всех ребят, только Жук, ниже меня на голову, брал эту высоту, но «рыбкой», то есть животом через планку, приземляясь на руки и спину. Этот стиль официально не признан и теперь. Моим кумиром по прыжкам в высоту в детстве был Валерий Брумель, я тогда даже подумывал о спортивной карьере. Наш физрук усиленно занимался с некоторыми и со мной в том числе. Но потом физрук сменился, у нас тоже как-то спал интерес, хотя я навсегда остался болельщиком спортсменов, прыгающих в высоту. На любительском уровне занимался турником, ходил на руках, качал мышцы. В армии я научился делать «солнышко» на перекладине, но потом сорвал спину и резко бросил это дело…
Я спросил у Толяна, не видел ли он Жука? Тот отрицательно помотал головой.
В этот момент в сумерках показалась маленькая фигурка, крадущаяся вдоль забора в нашу сторону. Я вскочил, думая с другом «рвать когти», но вовремя разглядел нашего приятеля. И почему-то шёпотом прошипел:
− Жук, − ты, откуда?
− Да, − принимая мой тон и оглядываясь, зашептал он громко, − я свернул в другой переулок, потом ещё и ещё. Слышу, кто-то разговаривает, я сюда. Ну, а вы как?
И не дожидаясь ответа, вновь стал взахлёб тараторить:
− Вы знаете, когда дед шарахнул из берданки, меня словно подбросило, я в два прыжка оказался у забора, не видя где тот лаз, сходу сиганул «рыбкой» через забор. По-моему, я даже не задел его пузом… Я перебил его:
− И я прыгнул через верх, и тоже перемахнул забор, почти не коснувшись. А ты, Толь?
− Нет, я сразу нашёл дырку, и легко проскочил наружу.
Забыв о недавней опасности, возбуждённо переговариваясь, мы двинулись к детдому. Ясно было, что дед нас только пуганул, вряд ли стал бы он стрелять в детей, тем более, преследовать. На его яблоню, как мы после узнали, покушались не только детдомовские, но даже сельские пацаны − до того были сладки дедовы ранетки. Сельские ребята рассказывали нам, что дед живёт один, как бирюк, почти ни с кем не общается, за это его не любят в деревне.
«Общие дела» где-то к классу шестому-седьмому постепенно сблизили нас с сельскими ребятами. Мы встречались на речке, в сельском клубе, становясь старше, подружились со многими из них.
* * *
Из детдомовской жизни вспомнился некстати ещё один случай.
Вчетвером с дружками шли мы как-то вдоль русла реки Самары из села в летний лагерь. За обычным мальчишеским трёпом, Генка Жуков сказал, что можно человека запросто усыпить без какого бы то ни было снотворного. Достаточно взять его сзади двумя руками за грудную клетку в замок и приподнять. Усыпляемому перед этим нужно вдохнуть и задержать дыхание. В таком положении, говорил он, человек отключается.
Все почему то посмотрели на меня… Что мне делать, я не мог показать трусость и отказаться, лучше моей кандидатуры не нашлось. Подобрали исполнителя − Тольку Ракова, поскольку автор идеи был мелковат, а Толику я доверял, он выше меня на полголовы и на подлости не был способен. Толян взял меня, как учил «товарищ Жуков» в замок и приподнял над землёй, я мгновенно отключился.
Сколько прошло времени − не знаю, но когда стал приходить в себя, чувствую, что меня лупят по щекам. Ещё ощущаю, что лежу скрюченным на песке, и меня колотит так, будто я паралитик: дёргаются руки, ноги, голова. Когда открыл глаза, услышал радостный возглас: «Глянь, он очухался, ну наконец-то! А то мы уже перепугались…»
Ещё долго меня колошматило, и в теле была противная слабость. Ребята сказали, что это «хреновый метод усыпления» и решили больше не рисковать. Я слабо возмутился: «Ага, на мне так испробовали, а сами струхнули?» Но добровольцев больше не нашлось.
* * *
На всю жизнь запомнилось, как привезли в сельский клуб только что вышедший на экраны страны фильм «Человек амфибия». О, эта магия искусства! Так хотелось посмотреть эту фантастическую историю по повести Александра Беляева, одного из моих писателей-кумиров детства. Увидеть этот фильм было верхом мечтаний, но денег у нас, детдомовских, не водилось.
С тех пор, как я увидел афишу, мысль о билете меня не покидала, но что тут придумаешь, не пойдёшь же на большую дорогу, и просить мы не привыкли. Тем не менее, в день показа меня притянуло к клубу, словно магнитом.
Бывало, что на некоторые фильмы мы умудрялись пробраться в зрительный зал, за час-два прятались где-нибудь за кулисами или проникали через подсобку, на это я и надеялся, но в этот раз работники клуба предвосхитили все наши поползновения.
Я слонялся по фойе, выходил на парапет клуба, мучительно думая: как же попасть на фильм? Время шло, уже начался киножурнал, через приоткрытую входную дверь, у которой стоял контролёр, слышалась бравурная музыка. Выйдя ещё раз на улицу, приблизился к зашторенному окну. Через форточку было бессмысленно лезть (контролёр начеку!), хотя в детдоме мы и не в такую форточку пролазили, убегая после отбоя на улицу.
Однажды с ребятами побывали на чердаке клуба, искали − вдруг найдётся какая-нибудь заветная дверца, открыв которую, можно оказаться за кулисами или в зале кинотеатра…
На чердак не так-то просто было залезть. Наш клуб был самым высоким зданием в селе, почти квадратное строение примерно в два с половиной этажа, да ещё – высокая, крытая железом крыша. По пожарной лестнице мы забирались на неё, оттуда спускались на металлический и покатый узкий карниз. Бочком, бочком, прижимаясь спиной к фронтону чердака, рискуя соскользнуть и полететь вниз, пробирались к слуховому окну и залезали внутрь.
Там царил полумрак, шумно вспархивали голуби − сизари, попадались и белые, но одичавшие, были даже мохноногие, зобатые. В деревне водились голубятники, разводившие всяких турманов, «вертунов» и почую голубиную знать, а они иногда бросали своих хозяев и смешивались с одичавшими стаями. Голубятники, чтобы вернуть беглецов, как и мы, рискуя, лазили на клубовский чердак, иногда просили нас, пользовались нашими услугами.
В застрехах чердака на деревянных брусьях сидели голуби, на полу густым слоем за долгие годы слежался пласт голубиного помёта. Валялись скелеты и трупики дохлых голубей, в полосатом от жалюзи свете летали перья и пух. При нашем появлении голуби начинали метаться, бить крыльями по лицу, только успевай уворачиваться. Мы обследовали чердак, набрав за пазуху голубиных яиц, и снова рискуя, спускались. Тайного люка в клуб так и не нашли.
Такие мысли мелькали, когда я, ходя по ступенчатой террасе, уже окончательно отчаялся попасть внутрь кинотеатра. Вдруг прибежал опаздывающий и запыхавшийся одноклассник из сельчан Вовка Дубцов, на бегу спросил: «Кино началось?»
− Да, кончается киножурнал,− грустно констатировал я.
Он купил билет, и, проходя, мельком глянул на мою физиономию, словно кричащую о вселенской катастрофе... Поняв моё состоянье, протянул пятнадцать копеек. Билет стоил десять, но меньше у него не было, и он махнул рукой: «Ладно, оставь сдачу себе».
Это был 1961 год, только что провели денежную реформу, деньги уменьшились на один ноль. Теперь, будучи взрослым, испытав все потрясения злосчастных девяностых конца прошлого века, я знаю, что такое деноминация. Тогда наш сельский народ тоже недоверчиво поглядывал на полегчавшие кошельки, сознавая, что денег стало меньше, но купить на них вроде можно то же самое.
И вот я вхожу в полутёмный зал, первые кадры фильма. Как заколдованный, впиваюсь взглядом в экран. Зал переполнен, я пристраиваюсь где-то, забыв обо всём, простояв так весь фильм, как одно мгновение.
На экране – глубина и голубизна моря, фантастическая рыба-человек, подводный мир, необычная музыка, непривычная жизнь людей, отношений… Я читал повесть, но на экране это было что-то космически потрясающее. И всё это не в воображении, а перед глазами – живёт, музыка проникает в самое сердце, невероятно, непередаваемо, завораживает и поглощает всё существо…
Из наших детдомовских я один попал на этот фильм. После кино, словно под кайфом, ходил, забывая о действительности, попадая порой в смешные ситуации: меня спрашивали о чём-то, я отвечал невпопад, думая, видя перед собой экранные картинки, снова и снова переживая увиденное. Я жил отношениями любимых героев, представляя себя в роли Ихтиандра, влюблённого в Гутиэре. Видел, будто я в серебристом переливающемся костюме, плаваю с героиней в упругих волнах океана, достаю из раковин огромные жемчужины и дарю их любимой...
Уже старше, я смотрел много раз этот фильм. Он действует на меня всегда магически. И до сих пор в глубинах души живёт во мне это детское чудо тихим восторгом. В немалой степени, наверно, благодаря тому детскому потрясению, я и теперь не перестаю удивляться жизни, её повседневным чудесам. Господь даёт эту способность каждому, но большинство позже утрачивают этот великий дар. Никогда, никогда − среди мириад галактик и бесконечного пространства ничего подобного больше не повторится!
Говорят, существуют параллельные миры, где, возможно, живут наши фантомы, наше прошлое или будущее, но настоящего не вернуть! Не возвратить самое удивительное, что бывает у каждого − его мир, его восприятие. А вначале всего – наше детство. Проходит время, мы становимся взрослее и ленивее, нас всё меньше что-либо трогает… Но в возрасте глубоко «за», снова всё приятнее становится окунаться в тёплые и бесконечно далёкие воспоминания, как Ихтиандр, погружаться в морские глубины, в среду фантастических водорослей и кораллов. Так каждый раз мы словно надеваем серебристый, с чешуйчатыми переливами костюм, и ныряем в светлые воспоминания…
ПОЛОСАТЫЙ РЕЙД
Хорошо запомнился поход с дружками на колхозные бахчи. Перед самой школой, когда мы вернулись из летнего лагеря в детдом, оставалась неделька беспечной свободы…
Летом мы заприметили, что в нескольких километрах от летнего лагеря на возвышенном плато расположился арбузный рай.
Приготовив ремённые пояса, верёвки для подвязки рубах, чтобы не рассыпались арбузы, отправились сразу после завтрака на бахчу.
От детдома до лагеря было километра три, до поля с полосатиками столько же, но по дремучему лесу.
Добрались, когда солнце перевалило за полдень, повиснув над холмистой равниной. Действовали мы осторожно, разведали обстановку, поставив «на шухере» дозорных.
И вот покатились в овражек арбузы. Когда накатали достаточное количество, перенесли подальше от опасного места. Наелись досыта, загрузили пазухи и отправились в обратный путь. Сорт кавунов был какой-то мелковатый − меньше наших голов, но сладкие. Это нас абсолютно устраивало, у меня за пазухой поместилось шесть арбузов и по одному в каждую руку. Но так идти было неудобно, я дал ещё слабину рубахи из-под ремня и с трудом всунул и эту пару арбузов под рубашку.
Поначалу шли легко, но скоро стали уставать. У кого-то, не выдерживая груза, выскальзывала из под пояса рубаха, арбузы раскатывались по лесной тропинке. Мы останавливались, отдыхали, сидя на какой-нибудь коряге, болтали о том, о сём. Время шло, стало смеркаться, до летнего лагеря оставалось ещё с километр и три − до детдома.
Тут как раз мы вступили из перелеска в настоящий лес − край Бузулукского бора*. Огромные сосны раскачивались своими верхушками где-то под облаками. Пахло хвоей и тянуло от близкой реки сыростью. Миновали лагерь, отстоявший в стороне от нашего пути.
* Бузулукский бор - островной массив преимущественно соснового леса среди степей Заволжья и Предуралья, на границе Самарской (Куйбышевской) и Оренбургской областей.
Двигались гуськом, порой вздрагивали, замирая от громкого крика совы и раскатистого хохота пересмешника.
Скоро стало совсем темно, хоть глаз коли сосновой иголкой, − не видно ни зги. Под ногами громко хрустели сухие ветки. Шорохи и неведомые звуки накрывали нас со всех сторон. Никогда раньше так долго мы не ходили по ночам в тёмном лесу, хотя днём не страшна была здесь каждая тропка.
На середине пути между лагерем и селом приветливо подмигнул огонёк в окне домика лесника, стоявший на взгорке. Он жил с детьми без жены. Почему – мы не знали, может умерла…
Мы всегда раньше проходили мимо этого жилища, лесник слыл не очень приветливым человеком, но сегодня мы, порядком усталые, в нерешительности остановились напротив.
Витька Садчиков предложил: «Давайте попросимся к леснику на ночёвку. А чё, арбузы поховаем в закуток, скажем, что страшно идти по лесу. Не зверь же он, чай не выгонит».
Мы поддержали эту идею, да и в детдоме нас вряд ли ждут. Ужин давно прошёл, а тут есть надежда, что лесник приютит и, может, угостит чем-нибудь.
Всем сразу захотелось есть, урчали кишки, промытые арбузным соком. Найдя укромное местечко в овражке, сложили арбузы, присыпали их прошлогодними листьями, и направились к дому лесника. Залаяла собака, да так зло и громко, что мы ретировались.
Открылась дверь избы, на пороге в электрическом свете выросла огромная фигура хозяина. Он приложил ладонь поверх глаз, вглядываясь в темноту, потом гаркнул на собаку:
− Да угомонись ты, Дикой!
Эй, кто тут? А ну выходи, а то счас ружьё вынесу!»
Нас эта перспектива не устраивала, тем более мы пришли с мирными намереньями.
−Дяденька-лесник, подал жалостливый голос малорослик Жук и вышел вперёд, − мы заблудились в лесу. Пустите нас переночевать. Пожалуйста, − вспомнил Жук «волшебное» слово. Мы из Елшанки.
− Чё прячешься, а ну выходи, не съем, − стараясь говорить как можно мягче, пробасил хозяин.
Мы гуськом вышли к крыльцу, переминаясь с ноги на ногу, и предстали пред его очами.
− Ой, сколько вас, поди, детдомовские, сразу видно – «инкубаторские». Что: дай дядя водички, а то переночевать негде, и есть хочется, а?» − захохотал хозяин отрывисто, как птица пересмешник.
Видя, что мы подавленно молчим, сказал уже без шуток:
− Ну ладно заходите в дом, счас чё-нибудь сообразим. Многовато вас только. Да ничего, на полатях с моими пострелами как-нибудь уместитесь.
Мы протиснулись по узкому коридорчику сразу в комнату, справа за дверью возвышалась большая русская печь, рядом стол у окна и пара стульев, наверху темнела утроба полатей, откуда торчали две чумазые головы.
− Пап это кто? – бойко спросила одна из них, видно это был мальчишка постарше.
− Да вот подкидышей нашёл. Примем на постой? – снова с грубоватым юморком произнёс хозяин. – А ну к умывальнику, мойте руки да за стол, а там разберёмся!
Нам такое приказание понравилось и вот мы уже за столом. Хозяин, снял с печной плиты чугунок с варёной картошкой, из стола вытащил круглый хлеб, нарезал его большим сточенным ножом, упирая каравай себе в живот, налил компот из большой кастрюли и сказал:
− Имён ваших спрашивать не буду, потому как всё равно не запомню. А вот скажите, кто побойчей, как это вы так поздно оказались в лесу, да ещё и одни?
Витька Садчиков умел говорить обстоятельно, он произнёс серьёзно:
− Да мы, дядя, из лагеря возвращались, да заигрались у речки (в полусотне метров от дороги Самарка несла свои неспешные воды), нам стало темно и страшно идти.
− Ясно. А если что и не ясно, так от вас всё равно правды не добьёшься. Ладно, ешьте, да спать. Утро вечера мудрёнее.
Он так и сказал это слово − «мудрёнее», потому мне оно запомнилось.
Утром я проснулся, лишь только свет пробился в небольшое окошко, тревога, что нас хватятся в детдоме, сбросила остатки сна. Я увидел, что хозяйские пацаны дрыхнут без задних ног, как и мои товарищи, тихонько растолкал Витьку, Тольку, Жука и сказал, что надо поспешить уйти до подъёма.
− А как же лесник? – почесал затылок Витька.
− Уйдём по-английски, − произнёс книгочей Толян.
−Как это? – не понял Жук.
− Не прощаясь, − вставил я, и начал спускаться с полатей.
Мы благополучно выскользнули на улицу, лесника не было ни в доме, ни возле него, может, обходил с утра пораньше общественные владения, которые приставлен был охранять. Это нас устраивало, мы спустились в овражек, забрали свою добычу и отправились восвояси.
На территории детдома стояли большие бревенчатые бараки, используемые под склады, в которых хранились запасы одежды, продукты и разный скарб, нужный в большом хозяйстве. Эти сараи, как мы их называли, были почему-то на полуметровых сваях, хотя в этих местах о наводнениях мы не слышали. Под сараями было удобно прятаться, играя в пятнашки. На этот раз мы использовали это укромное место для хранения арбузов.
Оставалось ещё около часа до подъёма, мы благополучно залезли в форточку спальни, забрались под одеяла и успели ещё вздремнуть. В детдоме нас действительно никто не хватился.
Удивительное дело: мы росли в таком свободном режиме, летом после завтрака с компанией ребят уходили на Самару на целый день, порой и на обед не приходили, пробавляясь дарами леса и реки. Купаясь, мы ловили рыбу на удочки и варили в котелке уху, заранее прихватив на кухне соль, лук и хлеб, если повезёт, то и сливочное масло.
Раков мы вытаскивали из нор в отвесном правом берегу реки. Способ ловли прост и стар, как мир: засовывали руку по самое плечо, с трудом доставая лишь пальцами подводного обитателя, нарушая его царственный покой. Растревоженный рак хватал клешнёй за палец, прокусывая его порой до крови. Нас это не смущало, зато можно было, подтащив его к выходу, перехватить другой рукой, вытянуть и закатать под резинку трусов.
Обследуя отвесный берег, мы искали норы и вытаскивали его обитателей. За час-полтора налавливали таким Макаром с ведро членистоногих. На такой случай мы брали с кухни двухведёрную алюминиевую кастрюлю-выварку и варили в ней раков на берегу реки.
Однажды принесли её, полную, на лагерную кухню, а повариха тётя Катя дала всё необходимое к этому случаю, мы развели у оврага костёр, среди нескольких камней, на них поставили выварку.
Сварив раков, угощали всех желающих, устроив настоящий пир «на весь мир».
* * *
А ещё я любил собирать дикую землянику, росшую на лесных полянках. Кажется, и сейчас помню этот запах и её терпкий вкус. С каким наслаждением я ел ягоду, лёжа на боку или животе, подолгу не сползая с одного места. Раздвигал резные листочки, покрытые утренней росой, рвал и примечал следующую сочную и сладкую. Столько душистой, солнечной земляники росло в те времена в перелесках у реки,
рви – не хочу! Мы, принимали этот природный дар, как должное, словно запасаясь впрок лесными витаминами.
Так что, называние «Вкус детства» можно с таким же успехом поменять на «Земляничный вкус» или «Черёмуховый», «Вкус медовых яблок». Много было разных вкусов…
Но если все вкусы объединить, то это всё-таки Вкус детства, без всяких кавычек. Хотя он часто бывает не всегда сладким. Вот доказательство тому.
С арбузами у меня есть ещё одна история, произошедшая незадолго до детдома, когда мы вернулись с Дальнего востока.
Была уборочная страда. Наше Оренбуржье в те времена славилось как хлеборобный край. По просёлочным дорогам грузовики везли зерно, но наращенные борта имели щели и пропускали, сея его довольно много по просёлочным, пыльным дорогам. Текли золотистые ручейки, образовывая ленточки и кучки зерна там и тут. Предприимчивый народ, видя, что пропадает добро, ходили с вениками и вёдрами, собирая его на фураж, потому что у многих были коровы, свиньи, гуси, куры. У моего брата тоже была корова и домашняя птица, он сам иногда привозил зерно, мотаясь по колхозам, а тут я − на каникулах, слоняющийся без дела. Вот он и поручил мне сходить за околицу да пособирать дармового корма. Я охотно согласился, нашёлся и напарник – соседский пацан Сёмка, такого же возраста, как и я.
Рано утречком, весело болтая, мы шли вдоль лесополосы по просёлочной дороге, вскоре стали попадаться рассыпанные зёрна, но их было мало, как нам казалось, и мы шли дальше и дальше.
Вышли на взгорок и тут на промытой паводком дороге увидели целые кучки лежащего зерна. Стали сгребать.
Вдруг мой товарищ воскликнул:
− Глянь – бахча».
− Где?
− Да вот, рядом с дорогой. Вон арбузы лежат. Ой, сколько!
Увлечённые, мы пошли по полю в предвкушении лакомства. Я хотел взять один самый большой и спелый, но друг остановил, вскричав: «Ничего себе! Вот это арбузище! А вон ещё какой!»
Мы, незаметно для себя, оказались в глубине поля, и тут издали послышался гортанный крик, повернувшись, увидели мужика, бежавшего в нашу сторону. Ничего ещё не сделав предосудительного, мы стояли, думая, что делать: бежать или дождаться бегущего к нам охранника. Вдруг мы заметили, как понизу, над зеленью вьющихся арбузных плетей, большими скачками к нам приближается что-то продолговатое палево-черное. Да это же собака! Уже видны её стоячие уши – овчарка! Страх тут же закрался в детскую душу. Кинулись прочь. Выбежали на дорогу, но силы стали покидать нас, побросали вёдра, зазвеневшие по сухой прогретой колее. Разве от собаки убежишь? Сёмка отстал, и на нём вскоре повисла овчарка, вцепившись в ворот рубашки. Он закричал, я обернулся. Ноги подкосились, я тоже упал лицом в пыль…
Потом мы шли как на расстрел, с двустволкой наперевес нас вёл по арбузному полю сторож к шалашу, словно большому вигваму, виднелись стоящие скрещенные колья.
Наставив ружьё, смуглый и морщинистый мужчина, сильно искажая слова, стал спрашивать с пристрастием то меня, то Сёмку: «Почему воруйть арбуз? Как фамилий?»
Мы плохо понимали его из-за ужасного акцента. Семён стоял весь в крови, рубаха висела клочьями, из левой, разорванной мочки уха сочилась кровь, и плечо было бурое от крови и пыли. У меня из носа тоже текла кровь, смешивающаяся с пылью. Я размазывал её по лицу.
Сторож будто не замечая этого, продолжал задавать дурацкие вопросы.
Тут подошёл ещё один охранник, видимо, его напарник, увидев нас вблизи, перепачканных и окровавленных, сказал зло:
−Ты чё Рамазан, не видишь, пацаны дрожат и кровью истекают, это же дети!
− Не сдохнут! Не скажут фамилий и адрис, где живут, я снова собака натравлю!
− Ну, ты зверь! Из-за пары арбузов ребёнка хочешь угробить!
До дядьки с не русским именем всё же, видимо, стали доходить слова напарника, и он гаркнул на него:
− Полей ему на руки, пусть моитца.
Меня же он оттащил в сторону и стал задавать те же вопросы.
Я не понимал происходящего, ведь мы не сорвали ни одного арбуза. Я назвал фамилию брата и сказал для острастки, что он – личный шофёр первого секретаря райкома партии. Если с нами что-то случится, ему не сдобровать!
− Ишь, напугал! Да хоть сам геныралный сикритар…
В тот момент моя интуиция сработала правильно, была реальной угроза, что мне сейчас накостыляет этот угрюмый нацмен.
− Ладно, посиди в шалаше, подумай.
Грубо схватив за руку, другой откинул полог шалаша и втолкнул меня в темноту, где было душно, и стоял полумрак. Через несколько минут ко мне присоединился Сёмка. Мы о чём-то говорили, кажется, я спросил его о самочувствии, состояние у обоих было гадким, но он уже не трясся и почти успокоился, умывшись водой из стоящей у шалаша бочки.
Мы сидели ещё около часа, что там делали сторожа, нам было не ведомо, но вот полог откинулся, зашёл дядька, заступившийся за нас, и сказал:
− Идите домой, сможете? Я всё уладил. Там я нашёл ваши вёдра и веники, вы пшеницу собирали?
− Да, − подтвердил я. − Мы и не знали про ваши арбузы, случайно увидели и зашли.
− Я это понял, возьмите по арбузу, не бойтесь, и идите домой. Этого татарина наняли сторожить, он не здешний. А правда, что твой отец возит первого?
− Это мой брат (меня охватила злость), а как же Сёмка? Его собака вон порвала!
− Ладно. Всё обойдётся, собака не бешенная. Возьмите арбузы.
− Не надо нам ваших арбузов.
Я взял Сёмку за руку словно маленького, и мы выскользнули из шалаша, подхватив вёдра, прямиком через бахчу пошли в сторону посёлка. По выходе с бахчи я, неожиданно для себя, размахнувшись ногой, поддел от души арбуз! Тот разлетелся вдребезги.
Виктор, узнав о случившемся, матюгнулся и сказал, что этого так не оставит. Как уж он там разбирался, я не знаю…
Вскоре нас со Славкой отец отвёз в детский дом.
ОСЕНЬЮ
Осень, это школа, уроки и занятия в классах, чтение любимых книг. Это репетиции в духовом оркестре. Освоил я быстро сначала «тенор», потом «баритон», «альт» и «бас», принцип одинаков, но первые два инструмента часто ведут соло, вторые два очень редко и кратковременно, в основном они аккомпанирующие. На «трубе» играла сама Аннушка и ещё один парнишка, тут нужны тонкие губы и не каждому он давался.
Отношения среди оркестрантов были доброжелательными, Анна Ивановна была для нас непререкаемым авторитетом. Где она научилась играть и нотной грамоте, для нас осталось неизвестным. Никому в голову не пришло об этом спросить. Но сама она играла по нашим представлениям очень хорошо.
Мы играли на праздниках у себя в детдоме, а на майские и ноябрьские проходили впереди демонстрации, открывая, а потом на обочине сопровождая музыкой всё шествие. Играли бравурные марши, как водится, после этого в детдоме бывал праздничный стол с конфетами, печеньями и лимонадом.
А ещё нас возили на похороны, чтобы «дудеть» на проводах новопреставленного или «жмурика», так на языке музыкантов называют покойника, что сильно охлаждало моё увлечение духовым оркестром.
Неприятная тема, но это тоже часть моей жизни, канувшая в небытие. Я тогда все любили хоронить усопших именно с оркестром. С детдомовским руководством можно было договориться без хлопот, причём нас, маленьких музыкантов, не спрашивали: хотим мы этого или нет. Может, взрослые что-то и имели с этого, не знаю. Нас же иногда угощали конфетами, печеньем, которые в рот не лезли, при воспоминании о процессии...
Выезжали мы с Аннушкой даже в окрестные сёла, бывало, в жару и по осенней распутице. Зимой редко, поскольку мёрзли руки и губы, примерзая к металлическим мундштукам, мы простывали. Под неизменный марш Шопена, у самого гроба, играли нестройно, под звон тарелок и бухающий барабан.
Впереди, когда несли открытый гроб, летом от покойника шёл неприятный запах. В глазах до сих пор запечатлелась зелёная муха, ползающая по лысине усопшего… Родственники, всю дорогу воющие в голос, тягостное чувство, словно зубная боль...
Надо сказать, я с детства боялся покойников, однажды напуганный совсем маленьким мрачной процессией. Что так потрясло меня я не помню, но знаю точно, что страхи связаны с похоронами. Года два в раннем детстве во сне мне виделись клумбы − круглые могилы, которых я в своей жизни и не видел, но интуитивно знал, что это именно могилы. Во снах я летал над ними, каким-то образом опускался под землю и там, в бесконечно мрачных лабиринтах парил над мертвецами. Они шевелились, тянули ко мне руки, иногда пытались хватать за ноги… Я в ужасе вскрикивая, просыпался весь в поту, долго приходя в себя.
Кошмары прекратились внезапно, просто потому, что я однажды увидел обыкновенный сон... Как все нормальные люди, проснулся и понял, что ночь проспал спокойно, без кошмаров. Радость наполнила сердце. Страшные видения больше не посещали, стали забываться эти детские страхи.
И надо же было судьбе поставить меня перед подобным же испытанием, только наяву. Мистического ужаса уже не было, но осталось в душе нечто, сродни брезгливости и неприятия тлена молодым организмом, жаждущим позитива, любви, добра. До сих пор в душе живёт ко всему этому некое отчуждение и отстранённость. Мне непонятен интерес старушек, их озабоченность и желание провожать всякого усопшего. Чужды церковные обряды отпевания. Жизнь не вечна, но так не хочется заранее думать о смерти, хотя кому-то это надо делать, конечно. Я предпочитаю позицию страуса, зарывающего голову в песок, ведь жизнь и так не сахар…
* * *
В школе я учился ни хорошо и ни плохо, скорее, ровно, в основном, на тройки и четвёрки и ничем не выделялся. В памяти мало что осталось от школьных дней. Память имеет свойство забывать всё неяркое, кроме некоторых эпизодов, как, например, инцидент с книгой, которую отбирал у меня директор. Иногда наоборот остаются эпизоды совершенно незначительные. Странная у неё избирательность…
Когда я пошёл в шестой класс, пришла Елена Сергеевна − новая учительница по русскому языку и литературе. Она мне запомнилась, поскольку неожиданно выделила мою персону среди других учеников.
На первом уроке по литературе объявила: «Дети, раньше вы писали диктанты и изложения, а сегодня напишете сочинение. Я предлагаю свободную тему. Вы живёте в красивом селе, как и ваши родители (она была приезжей и не знала, или забыла про нас, детдомовцев), что живут и работают здесь. Кто-то помогает родителям по хозяйству, другие чем-то увлекаются в свободное время. Напишите о своих впечатлениях, расскажите, например, о лете, каникулах. Или припомните интересный случай. Пишите, как можете, пишите, что хотите, я вам даю полную свободу в вашем творчестве. Причём, начинайте сегодня на уроке, а кто не успеет, возьмите тетрадь домой, принесёте сочинение на следующий урок».
Не знаю, как мои товарищи, а меня это вдохновило и я, будто взлетев к облакам, стал представлять село с высокого холма, у которого оно расположилось. Взмыв словно беркутом над равниной, мысленно начал полёт от заречного леса по-над гладью Самары, извивающейся тёмной змеёй и ускользающей в Бузулукский бор, и дальше мой взор простёрся к левой стороне реки, где раскинулось наше старинное село Елшанка. Представил, как выглядит сверху школа и стоящий серой громадой сельский клуб. Такой же «достопримечательностью» в селе был детский дом: он находился в огороженном по периметру большом дворе, в центре, основное здание было в форме буквы «П». Северная его сторона − кухня и столовая. Верхний удлинённый элемент «буквы» состоял из спален с длинным общим коридором, другая «палочка» буквы «П» − классные комнаты и комната для воспитателей. Административное здание стояло особняком. Во дворе находились хозпостройки, а ещё начатое строительство из фундамента нового корпуса когда-то давно, но так и оставшееся, как памятник бесхозяйственности на многие годы.
Историю села я мало знал, мы были временщиками, а познакомить с ней нас почему-то забыли или невнятно это сделали.*
* Вот что я нашёл в Интернете.
История села Елшанка Первой (Ольшанки, Елшанскойя крепости)
Елшанка № 1 (сёл с таким названием немало в России. Только в Оренбургской области их две, как я понял, есть ещё Елшанка Вторая) - расположена на р. Самаре, своим появлением обязана императрице Анне Иоановне (1693-1740). В фондах Российского Государственного Архива древних актов (РГАДА) в «Экономических примечаниях к планам Генерального межевания» Бузулукского уезда 1798 указано, «Оная крепость заселена приближенной, вечно достойной памяти Государыне Императрице Анны Иоановны в 1736, которая была укреплена полисадом и снабжена оружиями, из которых и поныне еще три чугунные пушки. Положение имеет поблизости реки Самары и на берегу р. Елшанки... В той крепости церковь каменная об одном приделе во имя рождества Христова. В оной крепости имеется казенный питейный дом и обывательская кузница, деревянная...» В Ольшанской крепости жили выходцы из 27 уездов и городов Московского государства, в том числе Суздальского, Саратовского, Ярославского, Владимирского, Пензенского, Тамбовского, Симбирского и др. В основном это казаки, которые были разделены на 2 категории «жалованных», несущих службу и получающих «жалованье» и «пахотных» - зарабатывающих средства для жизни трудом. Они освобождались от налогов. Знаменитый русский ученый академик П.А.Паллас в своей книге «Физическое путешествие по разным провинциям Российской империи» 22 июня в 1769 записал следующее: «Ольшанская крепость находится в лучшем оборонительном состоянии, нежели Борская, и стоит на высоком месте, прикрытом с северной стороны узкою дорогой и речкой Ольшанкой, а с восточной стороны - крутым берегом, из которого бьет ключ. От сего берега простирается широкая лощина до лесистого берега Самары и высокая водь оную поднимает. В сей крепости проведена порядочная накрест пересекающая улица и находится только 30 человек казаков, которых, как и во всех малых крепостях Самарской линии, имеют над собой атамана, а прочие жители суть дряхлые солдаты.
Есть еще немного сведений, касающихся тех времён, отрывочные сведения времён Гражданской войны и совсем незначительные времён советской власти.
Я сделал упор на окружающие красоты. Рассказал о своих друзьях. Не забыл о Сидоре Ивановиче и Анне Ивановне, воевавших на фронте, а теперь выбравших самые мирные профессии педагога и врача. Я попробовал глянуть на нашего директора другими глазами, решив, что был несправедлив к нему в своих детских суждениях. Наверно, ему было нелегко с нами, и вредным нам он только кажется, такова у него должность, подумал я…
Урока оказалось мало, я прихватил сочинение домой. На другой день, отдав учительнице, с волнением стал ждать результата.
На следующий урок Елена Сергеевна пришла и, положив стопку тетрадей на стол, объявила:
− Ну, ребята, сегодня разберём ваши работы, не возражаете?..
Класс притих. Она поднимала каждого и говорила о его сочинении, объявляла оценку, делая по ходу замечания, давала советы. Всё как-то ровно, ни кого не ругая, некоторых хваля за прилежание и хорошее сочинение.
Я с трудом вникал в то, что она говорила, ожидая своей очереди. По алфавиту я был четвёртым, но моя фамилия прозвучала последней. Я встал, втянув голову в плечи, готовый принять разнос, поскольку хороших слов в свой адрес раньше слышал редко, мысленно уже упрекая себя за то, что понесся в выси небесные, расфантазировался… Написал бы просто, без всяких там «полётов».
И вот слышу: «Знаете, ребята, а вот об этом ученике я хотела поговорить отдельно, надеюсь, и вы узнаете о нём когда-нибудь, но не то, что привыкли, может, слышать…»
Я по-прежнему ничего не понимал, о чём это она? Елена Сергеевна широко улыбнулась и сказала, назвав меня по имени: «Саша, я очень довольна твоим сочинением, более того, я хочу зачитать его перед классом, ты не возражаешь? Пусть другие послушают».
Она с выражением читала сочинение, говорила какие-то слова. Моё лицо горело, я плохо воспринимал происходящее, но чувствовал, что мне это приятно, а сердце наполнялось чувством радости. В конце она сказала, что за сочинение поставила мне пятёрку, за русский − четвёрку, потому что есть две ошибки.
Не мудрено, могло быть и больше, я подозреваю, что их было больше в таком обширном сочинении, ведь с русским языком у меня не всё было гладко…
Этот день перевернул всё в моей душе раз и навсегда. Ведь до этого момента кто я был − обычный мальчишка, ничем особым не выделялся. Ну, прыгал в высоту на физкультуре метр восемьдесят, в баскетбол, волейбол, в шахматы неплохо играл.
Но всё это казалось обычным. Толька Раков, например, бегал стометровку за десять секунд и ничего. Правда, потом я узнал, что это мировой рекорд… Учитывая, что физрук работал, как все в школах тех лет, с обычным секундомером, возможны погрешности и, чтобы поощрить нас, он иногда шёл на эти «погрешности»… Но планку высоты подделать сложно, впрочем, я могу усомниться в мировом рекорде моего друга, но бегал он действительно здорово…
Ребята поздравляли меня на перемене, называли «писателем». Я сразу почувствовал себя серьёзнее и старше, глядя на друзей, стал задумываться, что же произошло такого в моей жизни?
Прошло ещё немало времени, прежде чем я попытался использовать эти способности, долгие годы блуждал я в неверии в собственные силы. Виной тому была нелёгкая судьба, ведь не просто пробиться в этой жизни бывшему детдомовцу.
Трудно было выживать, приходилось элементарно добывать хлеб насущный, заботиться о крыше над головой. Я рано женился – в восемнадцать, в девятнадцать родилась первая дочка. Переезды, поиски угла, затяжные и выматывающие болезни… Много через чего пришлось пройти. В юности были попытки пробы пера. Стихи, сотрудничество с газетой в качестве внешкора, но снова проблемы и, казалось, окончательно оставленные попытки что-то писать...
Но у Бога свои расчёты и вот пришло новое испытание: тяжелейший порок сердца, инвалидность и одновременно переоценка ценностей. Вместе с этим пошли стихи, неожиданно, пока робкие и неумелые. И вновь долгий путь проб и ошибок, но всё больше удач и уверенности в свои силы. Сказать о себе, что я уже состоявшийся автор? Не знаю, я в поиске.
О своих неиспользованных способностях глупо жалеть, Господь хоть теперь, но дал мне этот шанс, и я пытаюсь его реализовать…
ВЕСНОЙ
Любое время года прекрасно по-своему, но лучше весны природа ничего не придумала. Начало обновления жизни, вечный гимн молодости!
Невестушка весна, моя любимая подруга! Готов петь тебе песнь любви бесконечно, но уж больно скоро ты проходишь.
В начале лета ещё всё благоухает, но мне уже становится грустно: кончается весна, снова я готов ждать её − царицу, красавицу, певунью…
Елки-палки, почему так несправедливо устроен мир? Природа постоянно обновляется, а человек стареет, и каждый год весна своим приходом напоминает ему о молодости звоном капели, гомоном пернатых, красками цветов и зелени. Весна бывает разной, но всегда – прекрасной! С ней и человек ненадолго молодеет, пробуждаются надежды, витает планов громадьё, мужчины влюбляются в женщин, женщины восхищаются собой, обнаруживая в гардеробе яркие наряды, примеряя боевой раскрас...
Как я люблю наблюдать где-нибудь в укромном уголке, в рощице или лесополосе за титанической работой хлопотуньи весны. Вот молоденькая и такая зелёненькая травка, на которую жалко наступать, а среди её былинок уже кипит проснувшаяся жизнь: снуют муравьи, длинные красные букашки, с чёрным иконостасом на спине. На деревьях и кустарниках лопаются клейкие почки и из них высовываются салатные язычки. Я всегда их пробую на зуб и на вкус, одни горьковаты, другие сладят. Но больше всего мне нравится наблюдать за беспокойным племенем пернатых.
Напротив моего окна, где я живу, росли рябины, липы, клёны, они неплохо защищали дом от дорожной пыли. На одном из деревьев находилось гнездо сорочьей семьи. В застрехах стены дома селились воробьи, в ветвях порхали синицы.
Иные времена, иные порядки: пришёл «новый русский» (им сейчас всё дозволено) и спилил всю посадку, на месте бывшего сквера поставил три двухэтажных коробки, третьи этажи − под землёй. И как в песне: «Здесь птицы не поют, деревья не растут…» Прости, читатель, что в лирические нотки грубо врывается скрежет современной реальности. Слава Богу, ещё не везде и не всё вырубили, есть уголки, куда можно войти и остаться наедине с природой.
Когда ещё был жив скверик, я подолгу наблюдал из окна за пернатыми. Удивительно беспокойное племя.
В сорочьем гнезде каждый год появлялось младое потомство. Но до того как оно появлялось, за обладание гнездом разгорались страстные баталии. Борьба шла, видимо, между хозяевами и претендентами. Разборки происходили театрально, с криками и выяснением отношений так, что только пух и перья летели.
Но выявлялись победители, и начиналась реставрация гнезда, причём, теперь уже его законные обладатели: самец и самка поднимали неимоверный галдёж, спорили, доказывая своё понимание устройства любимого гнёздышка, трескотнёй будя по утрам жителей рядом стоящих пятиэтажек.
Воробьи и синицы тоже шумливы и беспокойны, и часто на моих глазах особи мужского пола весной вступали в отчаянные схватки из-за клочка ваты или укромного местечка под застрехой. На всё это мне, взрослому человеку, смотреть интересно, на их возню. Вот, думал, мелюзга, а как у всех больших и важных, у них тоже свои заботы и переживания. Я проникался сочувствием к какому-нибудь незадачливому претенденту на уютный уголок, кому на этот раз не повезло…
А ещё я люблю весной бродить по ближайшему леску, переходя от дерева к дереву, забираясь в дебри, но обходя валежник и буреломы. Сколько первоцветов прячется там и тут, удивляя своей нежной красотой! Здесь кипит незаметная для большинства людей жизнь. В это время года и солнце как будто теплее, и речка в овраге кипучей, и жизнь настырней, − всё спешит, борется, самоутверждается! Бьют часы-метроном, каждый день замечаешь новые и новые изменения. Деревья и кустарники покрываются листвой, расцветают разными цветами, благоухая и заманивая к себе насекомых и впечатлительных двуногих, как я… Ходи, восторгайся, пиши стихи! Ещё недельки две и последний цвет лепестковым дождём осыплется на траву, на дороги, на головы проходящих людей, развеется вихрем проходящих машин, словно и не было этого чуда – весны.
Начинаешь замечать маленькие узелки будущих плодов, то, что в неустанном труде успела вынянчить труженица-весна. Чем нас потом одарит капризное лето и накормит щедрая матушка-осень...
* * *
В детском доме весной мы с ребятами ходили в поля за сусликами. Эти неприхотливые зверьки каждый год плодились в невероятных количествах на полях нашей области, доставляя немалый урон хлеборобам.
Мы ловили сусликов голыми руками, порой рискуя быть покусанными острыми, как секатор, сусличьими зубами.
Но сначала нужно было добраться до их колоний по раскисшему глинистому бездорожью. Суслики селились на пригорках, там, где весенний паводок и талые воды не могли залить их многочисленные норы, разветвлённые под землёй ходы.
Необходимо было дождаться подходящего момента, пока ещё не высохли лужи в оврагах. Воды должно быть вдоволь, чтобы осуществить задуманное, иначе все усилия будут тщетны.
И вот мы на месте. В норах полно сусликов, а в канавах стоит талая вода. Но прежде необходимо основательно подготовиться к осуществлению задуманного предприятия. Суслики живут колониями или большим выводком на отдельном участке. Нужно было забить лишние выходы из нор на поверхность, кроме двух, чтобы в один лить воду, а из других отлавливать зверьков.
Плешивый, почти голый взгорок являлся прекрасным местом обзора для сусликов, но и для нас − удобным местом их ловли.
С собой мы брали несколько цинковых вёдер. Заливая воду в нору, слышали, как из глубины доносились странные бульканья и хрюканья. Вода то уходила, то стояла минуту-другую, мы доливали её, порой она всхлюпывала где-то в глубине утробным урчанием. Постепенно воздух переставал прорываться через столб воды, значит, нора была почти полна.
А сусликов всё нет, но мы-то знали их хитрости. Они боролись со стихией отчаянно. Их норы устроены как раз в расчёте на природное бедствие, для этого были предусмотрены запасные продольные и поперечные ходы, находящиеся на разных уровнях. Таким образом грызуны успешно противостояли паводкам и внезапному ливневому дождю.
Но против человеческого разума устоять трудно. Бежать сусликам некуда, и они применяли последний, но очень оригинальный способ самозащиты: крупные особи, скорее всего самцы, просто перекрывали в норе задним местом поток воды, сохраняя тем самым возможность продержаться какое-то время остальным.
Нам и им необходима выдержка − кто победит, хотя мы-то ничем не рисковали, а для них это вопрос жизни и смерти.
Как ни задерживай воду, она постепенно просачивается, а выход только один, под землёй начинается паника. Эта картина возникает в моей голове, я будто вижу происходящую драму под землёй: суслик, перекрывающий доступ воде, не выдерживает и кидается в сторону собратьев, те, в свою очередь дальше, а отступать уже некуда. Одни захлёбываются, другие успевают прорваться к выходу, а мы – тут как тут. Вот показалась первая голова, мокрая и скользкая от глины, нужно изловчиться, быстро схватить суслика сзади за шкирку и бросить в ведро, пока он не опомнится. Главное, не трусить и хватать резко и жёстко, чтобы не извернулся и не резанул по руке. Я много раз ловил сусликов подобным образом, бывало, что они кусали, но азарт, есть азарт. Потом мы догадались, что лучше хватать их рукой в тряпке, как в рукавице, так безопасней.
Всего несколько сусликов прорывалось из затопленной бездны, мелких мы пропускали или откидывали, нам было вполне достаточно пяти-семи упитанных особей.
Охота заканчивалась, разводился костёр, мы обсушивались, потрошили суслей и обдирали шкурку, насаживая тушки на палки, медленно поджаривали их, словно шашлык.
Учитывая, что урон для сусликов на огромных просторах степи был совершенно мизерный, мы не страдали угрызениями совести, наоборот, за сокращение поголовья грызунов нас бы только похвалили.
Зато предоставлялась возможность полакомиться прекрасным диетическим мясом, что, как говориться, для нас было весьма полезно. Перепачканные и усталые, но полные впечатлений, возвращались к вечеру домой.
Весной мы ещё любили перебираться за реку в лес. «Реквизировав» у сельчан лодку, отправлялись на ней в опасное путешествие по весенней и неспокойной реке на другую сторону. Это был чисто спортивный мальчишеский интерес, граничащий с безрассудством, потому что в лесу, кроме сорочиных, галочьих и других яиц, нам нечем было поживиться. Но разве благоразумие у ребят нашего возраста стояло на первом месте?
Яйца птиц нам не были нужны, мы устраивали игру в войнушку. Разделившись, кидались ими вместо снежков. Это что-то вроде современной игры, называемой иностранным словом пейнтбол. Но иностранцы, а теперь и у нас, это делают в экипировке, на оборудованном полигоне, с ружьями, заряжёнными не пулями, а шариками с краской. Мы же бросались яйцами, стараясь в запале как можно сильнее разукрасить противника. Иногда это перерастало в скандал, с выяснением отношений – кто кого сильнее вымазал, кто бился по-честному, а кто шельмовал. Но в итоге страсти утихали, мы «зализывали раны» − застирывали в реке одежду. Навоевавшись, возвращались на левый берег, живо разбирая свои победы и промахи.
* * *
Кажется, в седьмом классе, после того, как нам не удалось достать лодку, разочарованные, мы расположились возле мутной ледяной воды. Пригревало яркое весеннее солнышко, от которого млелось на зелёной травке у берега реки.
Кто-то предложил: «Давайте окунёмся, что-то жарко стало». Все, соскучившись по лету, по нашим купаниям, согласились. Нам не терпелось залезть в воду. Сразу вспомнились наши ныряния, плавания в жаркие дни лета, мы гонялись друг за другом, играя в «пятнашки». Погоня проходила не только в воде, мы выскакивали на ныряльный мостик, сооружённый нами в удобном месте, сходу прыгали в воду, проносясь, словно амфибии в прозрачной воде, отталкиваясь ногой о песчаное дно. По дну ползали створчатые ракушки, о них часто ранили ноги. Раз нырнув, в пылу погони, я резко повернул к берегу, чтоб оторваться от преследователя, и со всего маху пропорол себе плечо ракушкой. На плече был вырван клок кожи. Странно, видны были белые прожилки и ни капли крови. Рана получилась глубокой, и надо было идти к Аннушке, чтобы она оказала помощь.
Только подходя к лагерю в ране стали проступать мелкие рубиновые бусинки. Аннушка засыпала рану стрептоцидом, забинтовала. Рана долго заживала, шрам же остался на всю жизнь.
В тот день на берегу студёной реки мы, раздевшись, окунулись по разочку. Удовольствия не испытали, но очень сильно рисковали: скользкий глинистый берег резко уходил вглубь, чуть зазевайся, сведёт судорога и уже не выбраться…
Я тогда подхватил воспаление лёгких, а мои друзья − как с гуся вода, всё обошлось.
ПОСЛЕ ДЕТДОМА
Моя эпопея в детдоме завершилась, но там остался и жил младший брат, я уже был бессилен чем-либо ему помочь. Не знаю, как он рос без меня, но и при мне он был каким-то незаметным, тихим, непритязательным.
Выйдя из детдома раньше, ведь он на был на четыре года младше, я целиком оказался поглощён навалившимися на меня взрослыми проблемами. Мы редко переписывались, расставшись сначала лет на шесть. Потом судьба соединила нас, но ненадолго.
При последней встрече, через тридцать лет, он рассказывал о бывших друзьях, которых я не помнил, это было поколение младше нас, а малышня меня мало не интересовала.
Брат, как и я, и после меня убегал с дружками из детдома, но не к родным, а к одному из товарищей в совершенно другое место просто за компанию. И это также кончилось ничем, они вынуждены были вернуться назад.
После восьмилетки его направили в ПТУ учиться на электросварщика. Помню, у него была одна проблема, что-то с ушами, из них текла жидкость, но он не жаловался на боль.
Врачи, при поступлении в училище, обследовали и выписали ему направление… на удаление гланд, после чего у него перестали мокреть уши.
В связи с темой о здоровье, подумалось: вообще, удивительно, как относились к здоровью подопечных у нас в детском доме − государственном учреждении. Я припоминаю и не могу вспомнить, чтобы когда-нибудь проводились медосмотры, обследования воспитанников. Время было такое, что ли? Знали ли о нас высокие начальники в области или в районе? Наверно, знали, но ни разу не доехали до маленького сельского детского дома и не поинтересовались: как вы тут живёте, ребятишки, как у вас со здоровьем?
Кстати, уже после того, как брат покинул детский дом, это заведение расформировали и сделали приютом для слаборазвитых детей. Не было должного внимания к нам, нормальным детям, что говорить о слаборазвитых...
Мы росли, учились, потом разлетелись по всему белу свету и никогда и нигде я больше не встречался со своими однокашниками, по сути, братьями поневоле. Многим была уготована одна дорожка – в места не столь отдалённые. Почему? – Совершенно неподготовленный подросток, учитывая сельскую квалификацию наших воспитателей, представал в мир, где тысячи соблазнов и никакой гарантии, что ему вовремя подскажут, помогут, остерегут...
В детдоме нас не учили самому элементарному, делали упор лишь на учёбу да и то формалистически, а в училище воспитателей и нянек вовсе нет. Да что там говорить, это счастье, что я сразу влился в рабочий коллектив. Труд, пример старших товарищей – лучший воспитатель в жизни несформировавшегося подростка.
Наша страна, это полигон контрастов. Вот почему в душе живёт порой двойственное чувство − от ностальгии по утраченным ценностям, до горечи и обиды на невнимание к душе маленького человека, брошенного на выживание, при декларированном всеобщем равенстве и гуманизме.
Тем не менее, плохое и хорошее переплетаются в каждой судьбе, что иногда просто трудно их разделить. Всё соткано из сплошных парадоксов: страна одновременно и мама и мачеха, наше детство и вся остальная жизнь − клубок реалий, когда бывает очень больно, но детство не может быть плохим, оно одно и запоминается до гробовой доски. Страну мы тоже не выбираем…
Помню, как после шестого класса, руководство детдома решило направить несколько трудных ребят в железнодорожное училище. Я как раз подходил по возрасту, нас привезли в Бузулук пред светлы очи высокой комиссии, и стали заводить по одному на собеседование. Трижды мне предлагалось место в училище, и трижды я отказывался. Меня просили выйти и подумать. Снова уговаривали, расписывали прелести профессии, обещали, что по окончании заведения стану мастером железнодорожных путей. Говорили о льготах − бесплатном проезде по железной дороге.
Что на меня нашло, видимо, так расположились звёзды в этот день… Я твердил, что хочу продолжить учиться в детском доме. Страх перед неизвестностью?
Мне обещали, что моя учёба не прервётся в стенах училища, но я упрямо стоял на своём. Тогда один пожилой, с усталым видом дядя, открыл моё личное дело и напомнил, что я далеко не отличник, − откуда вдруг такое рвение к учёбе? Я обещал улучшить успеваемость и продолжал стоять на своём.
Против моей воли они не могли пойти. Снова выручила Аннушка, она нас привезла на этот отбор вместе с завучем. Поручилась как медик и руководитель детдомовского оркестра. Впоследствии я не подвёл её, взявшись за ум, подтянул успеваемость.
Закончив восьмилетку в детдоме, я стал жить у брата и работать на Переволоцком механическом заводе учеником токаря, получил второй разряд, стал трудиться самостоятельно. Завод производил какой-то ширпотреб, запчасти для сельхозмашин. Ассортимент продукции завода меня не очень занимал, но профессия токаря понравилась.
Токарное дело − сродни творчеству: из болванки вытачиваешь деталь, отсекая всё лишнее, как папа Карло из полена делал Буратино. Одинокий плотник мог просто кинуть сучковатый дрючок в печь, но ему что-то пригрезилось, и он стал выстругивать себе забаву. Так и профессия токаря, но здесь необходимо иметь определённые навыки, чтобы получилась некая блестящая вещица − деталь, о которой ты вскоре забудешь, но она ещё долго будет кому-то служить.
Токари бывают разные. Профессионалы высшего класса выделывали вещи, умудряясь вытачивать цепь из круглой крутящейся детали. Причём, звенья цепи делались сразу − одно в другом, прямо на токарном станке. В такое трудно поверить, ведь звенья обычно собираются из отдельных колец, потом звенья собранной цепи свариваются, а здесь вытачиваются одновременно. Сам я не видел, как это делается, есть, видимо, некий «фокус», но мои старшие товарищи уверяли, что есть ещё старые спецы, они это делают, не верить старшим товарищам у меня нет оснований.
«Дядь Саша», как я называл своего учителя, казался мне пожилым, хотя было ему лет сорок, но главная его проблема − был немым… Наверно, чтобы быть хорошим токарем, необязательно быть оратором, всё равно ведь стоишь один у станка целую смену. Но как такому учить других своему ремеслу?
Будучи классным токарем, он объяснял все премудрости и тонкости профессии на пальцах. В ход шла мимика, жесты. Вспоминаю его уроки, которые со стороны выглядели комично. Показывая руками, рёбрами ладоней, пальцами, он мычал: «У-у, м-м-м…», помогая ещё губами, глазами и всем телом. Вот, мол, резец − нужно снять фаску (сточить кромку резца под определённым углом) карборундом – быстровращающимся абразивным кругом. Он проводил пальцем, показывая, где и как надо стачивать «победит» – прочный режущий материал, припаянный на конце резца. Я шёл к наждачному станку, точил резец и показывал мастеру. Он вновь терпеливо объяснял на готовом резце, жестами показывая, что я сделал не так. Я снова шёл к наждаку и так − шаг за шагом, постепенно научился затачивать, как говорят на профессиональном языке, − заправлять инструмент.
Я схватывал всё быстро. На станке учить токарному делу, казалось бы, просто − всё видно, бери и точи, но скоро сказка сказывается, зато не всегда всё получается. Ещё говорят: желание и труд − всё перетрут. За три месяца я освоил необходимые премудрости токарного дела, созрев для самостоятельной работы.
Меня перевели в цех по изготовлению рам для тракторов. Поставили в смену, закрепив за мной токарно-универсальный станок ДИП-300. Цифра говорит о величине радиуса в миллиметрах от центра передней бабки до станины… Иначе говоря, от центра вращающегося патрона, до жёстких направляющих, по которым скользит суппорт с поворачивающейся головкой для резцов.
ДИП-300, это довольно крупный станок (есть ведь токарные малютки, средние типа КА-62, 1К-62 − универсал и другие), но я рослый и не слабый физически, не робел. Основные детали, которые приходилось делать ежедневно, были заклёпки для рам, болты и гайки, сантехнические сгоны, другая мелочёвка. Работа была сдельной – сколько заработаешь, столько и получишь. И тут я тоже оказался не промах: зарабатывал не меньше, а то и больше иных взрослых дядек, моих напарников.
Рамы – штампованные швеллера приходили из других цехов, их скрепляли прессом с помощью заклёпок, нагреваемых в специальной высокочастотной печи. Заклёпок надо было много, мы с напарником точили их в две смены.
Не буду больше утомлять техническими делами, но я быстро вписался в коллектив, и жизнь потекла в определённом рабочем ритме.
На производстве, узнав, что я духовик, привлекли в заводской оркестр. Снова пришлось дуть на трубе по праздникам и на похоронах. Быть в похоронной команде мне ужасно не нравилось, но я мирился с этим, ставя общественные интересы выше личных.
Друзей у меня было мало, ведь после детдома я попал в новый коллектив, где не так много ребят моего возраста. Прожив в посёлке два года, учась в вечерней школе рабочей молодёжи, я заимел закадычного дружка, старше меня на два года. Саша Маркин был, что называется, рабочей косточкой, жил с родителями в селе, но главное его преимущество для меня – мотоцикл «Урал» с коляской, он научил меня управлять мотоциклом. Год спустя я от ДОСААФ сдал на мотоциклетные права.
Впервые удалось почувствовать прелесть руля и скорость, мы с Сашком носились по окрестностям посёлка и села, поднимая пыль просёлочных дорог, нас обдувало горячим летним ветром, и всё казалось прекрасным, жизнь только начиналась, манила и ласкала, как этот ветерок, звала в неведомые дали.
Через год я встретил свою любовь на всю жизнь. Это отдельная история, о которой я, может быть, расскажу в другой раз…
Детство кончилось, начиналась пора юности, дающая свои преимущества, радости и огорчения. Мы рыбачили, ходили на танцы, больше наблюдая со стороны за взрослыми забавами, постепенно приобщаясь к ним сами.
Через два года я уехал «декабристом» за своей девушкой в Сибирь, женился, работал в шахте, служил в Армии и так далее….
|