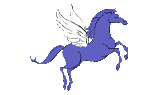
ОБЩЕЛИТ.РУ СТИХИ
Международная русскоязычная литературная сеть: поэзия, проза, критика, литературоведение.
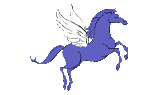 |
ОБЩЕЛИТ.РУ СТИХИ
Международная русскоязычная литературная сеть: поэзия, проза, критика, литературоведение. |
Стихи |
|
|
Авторы
Все стихи
Отзывы на стихи
ЛитФорум
Аудиокниги
Конкурсы поэзии
Моя страница
Помощь
О сайте поэзии
|
Критические обзорыРегиональный синдром ТАТЬЯНЫ ШЕРамиль Сарчин (13-08-2014)
«Региональный синдром» ТАТЬЯНЫ ШЕ
Почему я пишу о Татьяне Ше? Да всё потому же, почему до этого я писал об избранных мной авторах. Она – поэт. А поэтом для меня является всякий, кто живёт с постоянным чувством ощущения себя в пространстве большого Времени, находя этому чувству выражение в слове, которое в свете большого Времени неизбежно укрупняется, становится, в процессе творения из него некой иной реальности, над-реальным. Эта над-реальность и есть поэзия, которая всегда устремлена к познанию чего-то явно не явленного в действительности, но имеющего место быть, хотя и находясь за гранью всего явного нам – до чуда поэтического прозрения и откровения. Свою первую поэтическую книгу Татьяна Ше озаглавила весьма симптоматично – «Региональный синдром». Симптоматично не только для неё самой, убеждённой, что «любой, даже самый небольшой городок, это – уменьшенная модель всего мира». Симптоматично и для всей нынешней нашей поэзии, яркие таланты которой по большей части живут и творят на «перифериях». В этом смысле «региональный синдром» – это и есть «синдром поэзии». Открывается книга вполне традиционным предисловием об авторе («Шепелева Татьяна Александровна родилась (1968), училась (истфак ВГПУ) и живёт (пока ещё) в Воронеже» и т.д.), написанным – внимание! – самой поэтессой о себе, но от третьего лица. Тому я нахожу 2 объяснения. Первое – типологическое: для сегодняшнего состояния литературы характерен «синдром» отсутствия литературной критики, в задачу коей входит её в том числе и знакомство с читающей публикой начинающих талантливых авторов, как это, к примеру, делал в своё время Вадим Валерьянович Кожинов, статьи которого для многих из ставших известных впоследствии поэтов стали настоящей стартовой площадкой. Получается, увидеть, оценить и написать о тебе некому. И то одиночество, которое вызывает в тебе творчество – с надеждой быть услышанным и понятым, оказывается не избытым. Другое объяснение – в том самом ощущении себя в пространстве большого Времени. Татьяна Ше пишет о себе не столько как о человеке, сколько как о поэте. Поэтому за скобки выносятся год рождения, место учёбы, ниже по тексту вступления – пребывания в жизни. (Вот только с «пока ещё» не совсем понятно: пока ещё – живёт или пока ещё – в Воронеже? По всей видимости, всё-таки к живёт относится эта оговорка.) Важны сами по себе лишь факты рождения и бытия, остальное – преходяще. Так мыслит поэт, говоря о себе «дистанцированно», как о «другом», как об «авторе». И не просто говорит о себе, а речёт – в духе поэтических деклараций «серебряного века», излагая целую художественно-эстетическую концепцию своего творчества. Думаю, они будут небезынтересны читателю в свете предпринятого разговора о Татьяне Ше, поэтому приведу некоторые выдержки: «…автор старается быть интересным и скорее предпочтёт провоцировать возмущённые выкрики, нежели станет потворствовать сонному сопению»; «Автору гораздо ближе по духу пойманный в воронежские сети и весьма плодотворно "томящийся" (видимо, «томившийся» имелось в виду) у нас какое-то время Мандельштам»; «Медленно и болезненно происходит потеря безнравственных ориентиров. Эпоха тотального лицемерия в искусстве должна, наконец, завершиться. Пора уже речь, а не литературствовать»; «Поэзия никому и ничего не должна, кроме как быть свободной (хотя бы от политических и религиозных наслоений)». Таковы взгляды поэта, уже в силу своей программности, декларативности и концептуальности не могущие быть в поэтическом деле истиной в последней инстанции, поэтому самое время обратиться к стихам. Открывается книга Ше циклом «В круге первом третьего квадрата» – читай: «В начале третьего тысячелетия», в котором, судя по стихам поэтессы, как и в вечности, всё предопределено: Когда-то пили «Эскулап». Теперь вкушаю эскалоп… Да, «Эскулап» – не эскалоп, но эскалоп – не «Эскулап»! В этих шуточных строках, держащихся «на острие» всего двух слов, сопрягающих прошлое и настоящее, сжата почти до его физического ощущения, до тяжести неуловимая субстанция вечно движущегося Времени, мыслями о котором явно или неявно полнятся стихи поэта: Время-бремя. Только увечья вечны. Речи громче и плачи. Ярче свечи. Я прошу… я знаю – мы все конечны, только лучше – шёпотом по-человечьи. В этих строках, кстати, можно увидеть мотивировку псевдонима поэтессы, выражающей в сжатом до предела виде ключевую «идею» её творчества: ШЕ не значит ли «шёпотом», то есть «по-человечьи» – о самых что ни есть будничных, повседневных людских горестях и радостях, даже вроде «Эскулапа» и эскалопа? Но ведь в этих мелочах – наша жизнь, в которой по мгновению, ежесекундно изживается нами «время-бремя». В творческой установке на его преодоление видится мотивировка той абсолютной свободы обращения со словом, синтаксисом, интонацией, которая так характерна для поэтической манеры Ше, сводящей такие, к примеру, извечно устоявшиеся культурологемы, как «белый свет», «тёмный лес», «райский сад» всего навсего ко «лжи», что …нищим (духом, конечно же – Р.С.) дорога, поскольку, «их есть…» (далее – по тексту), способна разум побуждать к протесту и только этим иногда… Ага… Свобода в оперировании с поэтическим словом порой приводит Ше к известной «корявости» речи, к «косноязычию», которая так характерна для стиля излюбленного ею Мандельштама: «На то и день, что затянув ремень я // (но не на шее), буду поиграть» (курсив мой – Р.С). Таковы «речения» Татьяны Ше – не «мудро-покойные», не «поучающе-всезнайковые», но – «с задыханиями», на пределе чувств («В тот миг, когда ломая тишину // в висках стучат шальные молоточки»), вроде как спонтанная, но пророчествующая – не истины забитые («Здесь истина и рядом не лежала»), но переживаемое сейчас, тобой, оттого единственно истинное: …в этом мире ничего нет краше и мудрей моих коленей… И к вожделенной мудрости припав, ты вечно прав и бесконечно прав… Эти «мудрости» (естество, страсть, любовь), утверждаемые Ше, спасают её от «высокопарного слога» литературного лицемерия, придавая её поэтическому языку иные качества не менее «высокой» речи. Она, эта «высота», как ни парадоксально, находит у Ше выражение в живой разговорности, порой даже вульгарности – с точки зрения обывателя: «в конце концов и из конца в конец, // лавровый ли, терновый ли венец // гордыню тешит… // …Кто собакой брешет, // кому весь мир – огромный леденец, // а кто затылок чешет. И… пипец». Речь в данном случае, конечно же, не о каком-либо «новаторстве» поэтессы и даже не столько о её своеобразии, сколько о том, что сказанное работает у неё не на «выпендрёж», а органично, кровно связано с живыми телом и душой её поэтической личности. При её характеристике лучше всего подойдёт признак страстная. Читая стихи Ше, я невольно ловлю себя на мысли, что она нашёптывает их тебе – прямо в уши – в оргазмах поэтического восторга – да простит меня поэтесса за откровенность! Что ж, как она сама написала в одном из стихотворений: «откровенностью – за откровенность», составляющую, пожалуй, ключевую черту её лирики. Но откровенность не «камерная», не «замыкающая» на себе. Потому любой разговор о себе под пером Ше становится и размышлением о Времени, о жизни как таковой, о вечных основах человеческого бытия и мира в целом – какими бы горькими и опустошающими эти мысли порой ни были: Всё – песок. Не это странно. Странно, как там ни кружи, нашим курсом неустанно управляют миражи <…> Я не буду! Я не буду! Будешь, будешь. Не пищи. Я – песчинка, я – песчинка, я – песчинка, я – песчи… Но, как и свойственно творцу, Ше не замыкает читателя на этой мысли, находит выход из её «квадратуры круга» – идеи, вынесенной в заглавие цикла. В его финальном стихотворении «Острова» (к слову, тоже «круги») этот выход образно намечен в строках, сопрягающих небо и землю, земное и вечное: Никогда не боялась испачкать рук, ковыряясь в навозе. Навозный жук (даже если из золота) мне не друг, но забавна букаха. Острова отражаются в небесах, небеса – в океане. В таких местах в тишине проплывает гигантская черепаха. А название самого цикла – разве не обещание, не вера в «исходы»: да, речь о «круге», но – о «первом». Да и сама идея «круга», при всей его замкнутости, не есть ли залог вечности, об убеждённости в которой свидетельствует, к примеру, композиция всей книги? Она «сбита» из циклов, каждый из которых пронумерован, а стихи, составившие их, в свою очередь пронумерованы, повторяя в своей нумерации номер «своего» цикла: 1-9, 2-18, 3-12… Однажды начатый разговор продолжается в других стихах, представляющих собой отрывки из длящейся изо дня в день, из года в год, в «тысячи лет…», в «две тысячи лет…», в «круге первом третьего квадрата» беседы. Обратим внимание хотя бы на начала некоторых стихотворений: «…а о тебе ни слова – берегу…», «А вот, полюбуйтесь, моя квартира…», «Теперь последнюю, давай – «на ход ноги…». В полной мере понять отдельные из них без контекста просто невозможно. Они представляют собой своеобразные «сценки» из многоявленного действа жизни, с которой у лирики Ше очень прочные связи. Как и с культурой. Говоря о контексте, нужно помнить и о культурном контексте, вписанными в который оказываются стихи поэтессы. Нет-нет, в них прозвучат имена, строки великих, возникнут аллюзии с их творениями. О Мандельштаме уже сказано – и «напрямую» Ше во вступлении к книге, и мной в анализе. А вот, «в лобовую», – Фет: «Что Белый Свет? Что копоть-пыль? Что Фет?». Вот в строке «О, Бред!..» – известное из тургеневского «Русского языка»: «О, Бред! Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде того, что совершается дома!» А вот связь с Маяковским (вспомним его: «Слово может убить…», «Ваше слово, товарищ маузер…»): «Давно ли слово стало убивать?»; «А вот и товарищ Маузер уже далеко». Я уж не говорю о «падкости» Маяковского ко всякого рода «нелитературной» лексике, которой достаточно и у Ше. Любопытно, что она «сопрягает» Маяковского (кажется, могущего быть последним в этом ряду) с Библией: «вначале было слово товарища Маузера». Подобные «далековатые» «сопряжения» призваны передать, с одной стороны, высоту поэтического напряжения, с другой – целостное восприятие Времени, единящего в себе даже такие «развеянные звенья» культуры, как библейское и революционное, Бога и Антихриста… Возвращаясь к разговору о «культурном контексте» у Ше, не могу не указать и на её «связь» с современниками. К примеру, в её «Нас роднит одиночество… ожидание чуда…» для меня явственно звучит строка Иосифа Бродского: «Ибо нет одиночества больше, чем память о чуде…». Речь здесь, конечно же, совсем не в том, что Ше «перепевает» сказанное до неё. Нет. Речь о глубине духа, в которой бытует её лирическая героиня. В заключении хочу указать ещё на одну перекличку – с Гоголем, который сначала почти неузнаваемо «появляется» в строке стихотворения Ше «Медвежья шкура» (из второго цикла «Обнимающая воздух»), открывающей и решающей его: «Как грустно, Миша!». Нет ли здесь «далёкого» намёка на его «Скучно на этом свете, господа!» из финала «Повести о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем»? Вопрос – риторический, если обратить внимание на финал последнего стихотворения книги из «Лодки под снегом» (цикл «36-й регион»): К чертям иллюзии. Пиры. По берегам костры, костры и запах гари… Не беда, да только скушшшно, господа. ...Читайте стихи Татьяны Ше, господа читатели! Прочтений: 6246 Все обзоры Добавить отзыв |
|||||
|
||||||