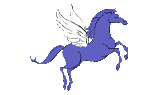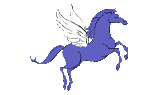Искать и быть вот всё, что нам осталось.
Как ветер встречный, вечная усталость
приглаживает нас, подталкивая вспять,
вокруг все умирают или спят,
а мы идём, свой путь не узнавая.
Перо зари (надломленная вайя)
струит, над свалкой города склонясь,
в наш сумрак душ пугающую ясь, –
сквозь эту щель на бледном шельфе неба
алеет рай, так жалостно и слепо,
а мы в пути, незаперт брошен дом,
фальшивый, злой, откуда мы бредём,
тоской по близости в тупую даль влекомы
к обломкам, может быть, такого же лже-дома,
в морозный день, встающий для зверей,
в грядущего оскал, в проём его дверей,
глядящий в лоб холодным дулом рока,
чьим горлом к нам доносит громов рокот,
вот-вот чья яростная пасть сквозь грань Сейчас
рванётся в прошлое, выкусывая нас.
В наш дом вор-день ворвётся через двери:
смерть теням детства, некуда теперь им
бежать и вереницей лет
пойдёт их крик, пойдёт за нами вслед…
И будет год, как загнанные кони,
мы упадём, и детство нас догонит.
И вспомним жизнь как тонкий в нём зазор,
поверх весны свой мёртвый бросим взор
и не поймём, на что ушло полвека.
Как дико то, что нам хотелось бегать,
шутить с судьбой, влюбляться и творить,
как зряшно узловата жизни нить
была: мы цельней не были, т.е. ничтожней,
и что с того? она не минет ножниц.
Спасенья нет и, значит, смысла нет.
Теченье лет, стечения планет
по-над рефлексий смелые аферы
ни то, ни то для нас не склеит веры,
всё на места вернём мы и душа
вновь запоёт,… но будет дребезжать.
Наш быт, мечты тональности и гаммы
забыв, прижжён изнанкой амальгамы,
и, как зеркал обманно ёмкий пласт,
мы всё отобразим, что ни посмотрит в нас,
пульс мира потерять мы начали бояться,
сердца, как запертые папарацци,
к толпе стучатся из груди, их ритм гоним
воспоминаньем, каково одним
нишкнуть в тиши, своё дыханье слыша,
впивая сплин, – и скит ума с плавучей крышей
готов кормить весёлый гарнизон
«других», как дьявольские куколки Тассо
с украденными лицами и волей,
как словно сотворённых обезболить
от несломимости под мир наш собственных глубин,
чей неотступен гул и негубим,
как вечный дождь над площадью сознанья
с тлёй каждому из нас представленною нами,
какого щедрый сев так скупо пьёт земля,
моля, чтоб захлебнулась эта тля.
Наш мир снутри по небеса порос лесами,
чрез них экспресс тревоги мчит по расписанью,
рассчитанному прошлым, чьи молчат
задумчивые чащи, счастья каланча
над крон руном нет-нет да вспрянет мило,
тотчас бригады ближних, вскинув бензопилы
рванутся к ней, покинув ставший вмиг состав, –
и стружечная кровь ударит по кустам.
Дух от «других» ржавеет, как металл от влаги,
а жизнь… жизнь избегает встряхивать балакирь,
где оседает ржа осмысленных имён,
лишь в те мгновенья, в кои влажный фён
замрёт, ласкавший разум, их испариной повитый,
мы поразимся грязным сталагмитам,
которыми ощерилось в нас дно,
но ибо «Я» само есть форма наносной
структуры из снятых со шкуры мира стружек,
пусть их ещё вихрь бытия накружит,
мы не почувствуем, сколь остр и кривобок
вольвокс мозгов тех, в ком клонировался Бог.
Нам даже, что душа шумна, как Ниагара,
польстит, среда ей станет идеальной парой,
и мы вживёмся в такт её, и разный пёстрый хлам
примкнёт как часть к вместившим нас телам,
и раздерёт их в клочья по-садистски,
сознание, как сны телефонистки,
на кластеры ролей развалится и в нём
впервые Ад лизнёт наш дух огнём.
С тех пор, подобно раз слакнувшим крови
зверям, мы новой жажды шлюз в себе откроем,
и если мы уже, тогда мы и вообще,
и станем коммутаторы вещей,
и впустим городов мги, копоти и голка
поток, надеясь разума осколки
им обволочь, надеясь: эта ось
всё подтолкнёт к тому, чтоб всё срослось,
но каждый час всё дальше будет рваться,
ложась в постель, мы будем расставаться
на семь часов с сознаньем, ставя цель
скомпоновать себя в единственном лице,
края фрагментов тыкая друг в друга,
обвитых всё лакун пунктирною яругой,
из многих полу-, треть- и четвертьлиц,
которых экзистенциальный блиц
наш понаприбирал, как части разных паззлов,
и вот – заря, и вновь как морок наслан
на нас: попытку призраков обнять
ценою светлой части новодня
опять хотим, опять в водовороте
плебеев мы и взор наш зорко бродит
по мельтешенью морд, по стразам глаз на них.
Как в сплоши стен выстукивать тайник –
так звать людей. За длительные годы
один из миллионов станет входом
в непрежний свет (где, может, чаянья ума
повторно ждут обыденность и тьма),
куда рванём стремглав, где встреча с монолитом
нас, раздробив, поделит по орбитам
в конвой чужой души, в наложники чужих идей
нас сдаст. Поджечь крыла мечтам – лететь на свет людей:
падение и грязь до дряхлости поспешной,
на крайний случай, путь калекой пешим
к подножьям круч, которым вызов столь нелеп,
что будет нам за честь найти в них щель под склеп, –
но даже не фантазия, не грёза
о торжестве! Шанс расчленён и роздан.
В тот час, как плоть земли почует зов
и наизнанку вывернет лицо
отход к последнему из снов, заглянет
душа в себя, о каждом сладком плане
смахнёт слезу или сглотнёт слюну,
и хватится меня… а я в небытия плену.
Какая смерть до ужаса простая! –
пол из-под ног, как тараканья стая,
рассеется, взмахнёт руками я
и рухнет в пустоту. История-змея
жуёт свой хвост, стирает те же звёзды
рассвет, ничто не познано, ничто не поздно,
льёт дождь, пьёт грунт, молчат вдали леса,
багровый след ведёт от колеса
судьбы к тому, что было мною.
Вот так природа лечит паранойю.
Рассеяны по свету палачи,
и мы, как мотыли играют у свечи,
живём близ них. Не веря в эту близость,
мы дышим вслух, наш страх проходит лизис,
мы тянемся к любви, мы веруем в права,
и летний день, и небо, и трава
плывёт к ногам, зелёно-золотиста,
подходит друг с улыбкою лучистой
и выстрелом в лицо вычёркивает вас.
С кровавой мешаниной вместо глаз,
с червями на губах, со лбом в осколках кости
рождённый жить лежит. Раскачивают мостик
над бездной мира пьяные ветра,
с бессрочною отсрочкой до утра
мотаем путь сквозь мрак, с боков всплывают стоны,
мосток скрипит, от пропасти бездонной
идёт тепло, в фантомных лужцах у перил
разбитый глаз луны искрится, как берилл.
Так мой отец погиб. С тех дней, мне кажется, веками
я буду помнить сад, обросанный кишками,
кровавую кровать и полуночный крик,
что спящий ум мой тормошил, пока проник:
«Андрей, твой папка умер… папка умер…
папка умер…» Спросонно-близорукий зуммер
схватил соседкин фейс (и каждая черта
его вожглась в меня), а после фейс мента.
И вот тогда я понял, что я сном был предан,
опять судьбы бдят надо мной полпреды,
опять внушает мир, как глупо быть не с ним.
Ты – чахлая сосна, а некто Бог – лесник,
и вот к грядущему меж двух токарных бабок –
размах клинка – удар – и ты уйдёшь за папой.
Прошло пять лет. Мне смерть забылась. Но опять
собой сегодня я ловлюсь на мыслях вспять –
на мыслях к ней. На мыслях сына дней, где личность
так невидимочна и так шизофренична,
так жгуче ощущенье немоты
плевальницы для слов, подставленной под чьи-то рты,
так ходишь вошью недосдохшей по планете
не ждущей ничего, что рядом с чувством этим
почти отрадно знать, что где-то на земле
мой персональный кат в пути навстречу мне.
А быт течёт… я при мечтах о доле знаменитой
живу, как склад с промокшим динамитом,
в планёрках, щах, нестиранных трусах,
как в непроходных заблукал лесах,
приду домой – швырнусь в кровать устало,
от глетчера ума капель водицы талой
кропит линолеум. Я старюсь, теребя
себя недоуменьем: «Это я, ты? Это у тебя
внутри души бил гейзер боли жгучей,
ты столько пережил, ты столькому научен! –
и ты – увяз в краю тупиц и горемык,
что кирпичи в составе стен тюрьмы
вокруг тебя, увлёкся лёгким хлебом
в обмен на кайф натужный и нелепый
на гуттаперчевом лице, востребованный здесь
среди жлобов, даб щекотать их спесь».
Но лишь чуть бунт – и бедности жмут путы.
Играя свой восторг от их зловонья, буду
жить у фартливых быдл, проевших дивиденд за прыть,
близ них проявленную как-то, до поры,
когда, плевком сорвавшись на их рожах,
разоблачусь и буду уничтожен.
И плагиатом вновь блеснёт судьба:
там – бич бухой, здесь – гаеров гурьба,
идут орудьем гибели абсурдной,
негаданной, безвестной… Выйду в Судный
День на скорбный плац да погляжу на толпы нас: –
вот меж кого не выстоял Парнас,
вот вкруг кого вращается планета, –
к ответу, мразь! – я погляжу на это.
А дальше долгий путь до дьяволовых врат,
глядь – слева обгоняет брат и справа брат,
вот в чьих руках страдал, вот в чьих ногах молился,
харча проклятия струится с сизых лиц их,
не удержусь и выкрикну: «Братва!
Бог промульгировал моё презренье к вам!»
Парадоксальна эта лёгкость, что нас к мукам
мчит. С чего она? – Ах, так поруган
наш род собой, что нет плохой цены
для нас, чуть шанс поманит, как магнит, иным,
и так задорно зреть его подавших гномов,
своим ж убитых нам попутствьем к таковому
(которое нам подвиг, им – беда,
распад их жизненных триад «ржач, трах, еда»,
капут их яви, где, как дремлющему стаду:
есть рай – нехай, нет ада – и не надо),
и оттого так иронично жить,
так алчет боли дух и к неге сердце не лежит.
Свой крик хотим впитать, как отрезвленья
выпить эликсир, порезать вены,
раз встретить ближних ночью на реке,
багровости по ванне, труп в мешке
со вскрытым горлом, выколотым глазом.
Передфинальный крик так отдаёт экстазом,
разгон – трамплин – испуг – отрыв – полёт,
полёт в ничто. Воспоминания болот,
где жизнь спала до фейерверка смерти,
крошатся и вбираются по лепте
в большое чувство блевоты на всё, что там,
куда вторгается чрез гибель пустота
запретной радостью, преследуемой плотью,
припомнишь тракт в дерьме, который пройден
с двуногой тлёй, стошнит, взойдёшь, ничуть
не плача, к палачу и хлопнешь по плечу.
N лет назад мне помогла б война. Сейчас иначе.
Красиво умереть становится задачей,
которую тем хлопотней решить,
чем жизнь тесней и чем дешевле жить.
Когда свой крест с собою вместе в Днестр
сниму, примкнув к банкротам, брошенным невестам, пристрелянным стрелкам и таре из-под гонора пловцов,
чей это мир взорвёт, чьё увлажнит лицо?
Моё лицо и мир речных рептилий.
Нас самки от самцов так запросто родили,
что «здравствуй, смерть» в нас вызывает смех:
с уходами одних крупнеет доля всех,
а неудачникам не шанс дождаться жалость.
Ум будто отнялся и сердце будто сжалось
до атома, кружусь во тьме безмысленно и зло,
учусь быть тем, кому не повезло.
И тлеет жизнь под поступь дуболомов,
моя фантазия, воспитана обломом,
блюдёт нору, которой интерьер
воздвиг её экспансии барьер,
плюс вот ещё: к двери приникнув ухом,
оцепенело вслушаю, как глухо
бранится плебс, вонюч и заскорузл,
сглотну отчаянья – и воли глупый груз
хочу сложить, желаю скрыться кожей
другой души, со мной судьбой не схожей,
не исчезать, но и расстаться с «Я»,
предать друзей, врагов принять в друзья
и их предать, опять с друзьями в дружбу
сыграть, любив, занелюбить, пластичность обнаружив невиданную… жрать понос… дрочить, как Диоген, на площади. Духовный инсургент –
так нареку я дремлющий в нас вирус,
чьей дрёмы рейс свершив, шлюп духа тронул пирс
уже во мне. И оглянусь на лес телес окрест,
уродливый и низкий, и осесть,
как меткой пулей нагнанный, на землю
вдруг захочу. Ещё мне жизнь поёт, но я уже не внемлю.
Вдруг (самому не верится) нет-нет
да загрущу по сибовской тюрьме.
Взят слугами кентов прозревших, двадцати двум метрам
тюремного паркета отдал я сердцевину лета
минувшего, прогулкам в полтора часа, лица
бескровной мелкоглазой маске подлеца
Скалецкого, стенам зелёно-сизым,
к которым став, затылком доставал карниза
вовнутрь ведущего от улицы окна,
чрез кое ей я видим был скорей, чем мне она,
и сонму мелочей, как то: окаменелость, названная кашей,
бутыка-кляп в жерле щербатом камерной параши
et cetera… Воронин по утрам
будил меня, под раций тарарам
валя кортежем чёрным из дому на службу,
смакуя каждый метр. «Убогому так нужно…
Пусть надувает щёки», – думал я сквозь сон
и, вопросив часы (будиться было не резон
ещё), скрывался по уши под грязным одеялом.
Как может насыщать так нужное так малым,
показывает воля. Я мечтал
с младых ногтей стать почудеснее Христа,
чуть старше – стать коварнее, чем Гитлер,
мрачней, чем Байрон (и вполне достиг). Мне
так за двадцать с гаком лет нагрезилось всего,
что стал я рыть к идее осевой
в своей душе, и вот я год в дороге,
пальпирую себя, секу ланцетом строгим,
гляжу – дивлюсь, скольким иллюзиям аншлюс
сорвал ревизией, наскольким становлюсь
я неклиентом догм, и мод, и чувственных стандартов,
я вновь, как первоклассник, чист, нет Гегеля на парте,
не смотрят с классных стен ворона и орёл,
склевавший крест, от школы б я побрёл
домой, мать не сошла с ума и жив мой папа,
я не знавал легавых красного сатрапа,
не издавал пугающих газет,
с их помощью узнав, как пахнет от друзей,
не голодал, не ел подобранного в поле
гнилья, не выходил с зарёй и ставил столик
с б/ушной и пустой белибердой,
мне наяву не снится каждый коридор
ЦК ПКРМ, что с безысходностью и злобой
сплетён, положен в мозг и намертво захлопнут,
не знал интриг любви, не знал апдейтов в ней,
которые самой её нужней,
не был обманут, не страдал стихами,
я в мир не врос, во мне стучит не камень,
вон солнца клок, вон звон колоколов
церквушки у тюрьмы, чьим боем фон заволокло
в моём уме, создав ландшафт туманный,
на коий рой фигур ансамблем странным
выходит, луч внимания зовут
они скакнуть по ним, ну… ну, давай! но этот зуд
уж не опасен мне – душа переварила
вселенную (за вычетом себя). Увы, ей всё обрыдло.
Остался день, простой, как белизна палат
больничных, где орать до багровенья гланд,
молить свободы, бить конечностями в двери
нелепо. Дышат у щелей упитанные звери.
«Когда ж финал?» – как будто спрашивает сап
привставшего на пальцы задних лап
у жирного глазка, как в камере-обскуре;
удалый персонал поддат или обкурен,
неумолкаем гул и рёв и визг машин,
вторгающийся с улицы крушить
рассудок арестанта, вжавшегося в нары
с укутанной башкой, горящей от кошмара
неодиночества и страха. Время шло,
я обретал с нуля те свойства, например, которых жлоб
был обладателем врождённым, всё грубело
внутри меня, всё выцветало, становилось белым,
я спрятал страстность и не вспомнил где,
не вспомнил раз, другой, а после к ерунде
такой не возвращался мыслью, сдался интересам
внешним. В меня впились. Я оказался пресным,
был выплюнут на отчий путь, и вновь
ведёт простор мой глаз туда, где солнца кровь
испарена и хлопьями витыми
плывёт над горизонтом. Моё имя
зачёркнуто в грядущем, мой удел –
дрожащая секунда, отгудел
когда-то луна-парк фантазий, в нём дышал я,
прошлась толпа по лёгким и отжала
из них дыханье, со жмыхом в груди
я существую, угнетён и дик,
и сотни лиц бегут пред моим взором –
и каждое с феодом в памяти, где пору
свою возделывает вечно, лишь взглянёшь
в него – и словно жизни шмат перемотнёшь.
Блокада зависти и зомбей бормотанье злое,
ухмылки быдл и ложь родных – всё тонко ловит
в конгломерате вспоминаемого взгляд,
светящий вспять, опять на язвы возвращая яд:
как будто ад потёк сквозь мясорубку,
вдруг гнусных трупов в ум вернув обрубки,
которые уже минули винт
и фильтр, но поутратив вид,
не стали страхом узнаваться хуже,
наружный идентизм израненным нутрам не нужен,
прикус всех унижений знаю наизусть
и сможет, думаю, мой дух теперь дерзнуть
составить полный каталог всех видов боли, –
перемешавших штаммы в диком поле
его истории. Увы, у зла над временем есть власть.
Создайте кто-то Бога, чтобы он нас спас!
Но мы средь нас, с одной лишь пустотой жестокой
вокруг. «Другой» – исток, чреватый памяти потоком,
«друг-ой» не друг, но паразит ума,
вся жизнь чья бой за то, чтоб их не развела корма,
и даже когда тот идёт под воду,
наш серый прайд нас не порадует исходом:
кто нами не любим, те преданнее крыс,
прописанные в мыслях, чтобы грызть.
Вот все, кто вместе всё во мне убили.
С ничем в душе отсчитываю мили
навстречу бесконечности из миль.
Как после гибели отца я жил игрой с детьми,
возникнув в Кишинёве, так и снова
я обтекаем стал для понта показного:
по голове своей уже так много дней
не прохожусь расчёской ни извне,
ни изнутри, очкастый хмурый клоун,
склонён к земле и к склонностям не склонен.
Безмолвье – моя родина, и вечный апатрид
я буду, ибо всё уж говорит.
А слово не выводится из мозга,
как, скажем, камни из печёнки или из межкостных
сочленений соль.
Да, я оазис, но куда ещё песок
мне не проник? Мой облик – стон от зуда,
рождаемого им, что звать «Пошёл отсюда!».
Я человек-бурьян: ну, кто бы от меня мог ждать,
чтоб эмбрион свой вверила мечта
моим корням? – но невообразимо
чрез столько бед, рабств, голодов и зим он
крупнеет, бдит, продумывает путь.
Убитый вид, побритый как-нибудь
чехол лица для головы, неладно
посаженной на кривошей цветов оладных,
с сутулым туловом её съякшавший мост, –
вот образ мой, отброс, под чьим тавро конспиративно рос
всегранный мир, другой, невероятный,
которым Жизнь докажет, что обратно
нейдёт, в облом капризам своих чад.
Да будет эшафот! Во мне над ним стучат
киянки плотников, под кайфом этих звуков
я жду-живу, жру, сплю, люблю подругу,
и этот мой обет, переходящий в бред,
мне не заменит ничего: как свет,
как воздух, как нектар расплаты
с той фабулой судьбы, что шлях, всё более разлатый
и вот, глядь, слившийся с безбортностью степи,
как нежный снега плед, который не слепит
своею белизной, мистически искрится
и отрицает даль. Во мне принц скручен, как мокрица,
но уж пора, калач муфтообразных лат
пробрала судорога – раз – и развела
концы кольца, был миг, душа прозрела
свой ранг, и вот маяк пред ней взблеснул несмело.
Всё просто: моё царствие в пути.
Искать и быть, не чая выжить и найти, –
вот та парадоксальная дорога,
выныривающая за отрогом
недопустимости (отсёкшей, как стена,
мир икс), где цель не ждёшь, но… ждёт тебя она!
Туда не поступь мураша, но пляс стрекозий
ведёт, таков под шесть бубей замаскирован козырь,
которым отбивается герой
от правил, тварью созданных под тварей рой,
я буду подыхать от голода и грусти,
но сердце рук поднять кайло не пустит,
таков квант воли мой – предельный и стальной, –
мой тыл, всей ойкумене остальной
его не оттянуть к дешёвым хороводам
торговль и производств. По рынкам и заводам
развёрстан плебс и там его удел,
Создатель исключенья захотел –
и вырос я, мимозный эльф под склизкою обшивкой.
Как доказать, что факт меня ошибка?
Пока на это не добыт ответ,
я скрупулёзно проникаю в свет
подать пример таланта с кулаками.
Так, солитер ума оправлен благодарно в камень:
я обитаю в каземате на момент
рожденья этих строк. А следующих – нет.
Вот с этой «В» из «Вот» я вновь пишу на воле,
…-о-т-с-э-т-о-й-«-В-»-… четыре пальца бьют
в паркет клавиатуры. Сам. Уют.
Пять пятьдесят горит в углу экрана,
супруга смотрит сны. Я странно рад, что рано,
что тянет таз, что голова грузна,
что так штормит в сознании со сна,
в такой поспешности с тремя слоями пледов
отброшенного с тела, ведь – победа! –
я время пнуть мой ретардирующий гонг
вдруг выиграл, лечу на свет, в бессчётности окон
запламенеющий, как только его звук
прибьёт к грядущему, как мириад базук
палит в моём мозгу по множимым мишеням,
и, в увлечённости оттаяв от слеженья
за гибелью моих голодных грёз,
копаюсь в лексиконе, словно клёст,
и дамп былого набиваю (так типограф
когда-то мучался над текстами), как споры
свои над завтра распыляя. Скажем, сын
мой стал бы лишь одним из миллиардов, чьи носы
отстранены от дел небесного госплана,
не правим бал уже ни мы, ни наши кланы,
но каждых свой левиафан танцует нас,
а вожжи от его двустволки глаз,
как эффренты в мозг, как лэпы в генератор,
ведут в культуру, редким панибратом
я прихожусь ей, наглость, счастье №2,
окольную тропу войны за небревна права
мне указала, вот где я воспряну! –
не плоти клон, а логоса бурьяны
ассимилируют под волю мою мир.
Жонглёр словами – будущий жонглёр людьми.
Да, захватить, но не роддом, не лайнер вшивый,
а разум всех. Всех кукловода, тыщепалого, как Шива, надеть на перст. Ломать – но вкрадчиво, не вдруг – культуры круг вещей под будущего культа круг.
Я бережен со всем, что ныне окружает
меня, как с экспонатами музея, где решаю
не я, чему нести свидетельство о мне
другим векам. Как акр на целине
вспахать, рука дерзнуть не может
смять фантик с «Буду в …», билет дорожный,
наичерновичайшие листки
полторастиший, не вошедших как куски
в романы о себе, отвергнутом Татьяной,
и всё в один портфель укладывает рьяно,
экипируя образ мой в бессмертье. Я уйду
с росой, пройду по инею и в снежной буре пропаду.
Я чую, пропасти вдали раскрылись брыли,
и скоро мне полёт, и не переизнежить крылья –
сегодняшний мой долг передо мной,
просядет небосвод, как мокрое рядно,
укутав понежней, и мордой занаждачит
об асфальт нужда. Ну так скорей, борзее, злей, иначе жизнь иль мечта – одна из них мне может стать чужда. Такой анонс не допускает ждать.
Светает. В волосах супругиных Тимоша
(котёнок наш) свернулся. Он хороший,
пушистый, маленький. Кард-ридер, ключ, блокнот,
часы… всё взял? Запревшее окно,
комп, лампа, луковицы в банках,
взгляд вяло памятлив в такую позаранку
и часто заблуждается в вещах.
И помещает давнее в сейчас.
Полгода нет, до яви – путь от лета
к тираспольской зиме. Дуплет тюремного рассвета
с восходом пред глазами, что глядят
внепамятно, сочнеет, пьяно рдян.
Пора в редакцию, сэр Масленников просит.
Мозг всё зовёт, а ноги не уносят;
быть стрингером не стоит жить, как я,
статье УК не равнозначна ни одна статья,
написанная мной для «Приднестровья»,
где я, подобно спившемуся профи,
сдаю перо в прокат за сколько ни дают,
и с каждым всходом дня восходит неуют
в моей душе. Мелькнуло было время,
в которое горел я и, искря, как кремень,
сам зажигать намерен был. Но стоп.
Я протрезвел, и вот – трёхмесячный простой.
Валяется в углу пустой кулёк от хлеба,
на одрах грёз всё пошелестывает креп, а
в номер ждут «Ура, вперёд!» (три бакса гонорар),
в день явно краха вскрыв с утра WinRAR,
ограниваю старые наброски –
один, другой,… набрав на полполоски,
копирую на флэшку, тёплый чмок
в довесок к снам Олесиным, ряшмой
шарфа под куртяком обмотанный арбайтер
выходит в путь, но тянет спать и
пальцы замирают у ключа.
Скорее в утра стужь, там может полегчать!
Но стоп и стоп. Всё мной пережитое
прижало тяжестью своей, в безволия истоме
застыл лицом к дверям, рассвета жидкий блик
на них заплыл, уходят корабли
от острова, где я пустынный берег
пинаю в бешенстве, что не вернуть теперь их.
Какой клоповник принял я за храм
свободы, постигаю я всё глубже. По утрам
я, словно бунт рассудка отторгает
верхушку памяти, по нарам провожу руками
и грудь жены, а не стены глухой экран,
поймав, на явь пеняю за обман.
И вот, как медленный стриптиз, как невидимкой
разматываемые бинты, в зияньи диком
своём мне обнажается сплошная пустота.
Да нет же, шанс ещё вот в этом… Уже нет? А там?
И там? Ну, значит, где-нибудь, где мне пока
незримо. Но мор иллюзий ускоряется и крепко
неверие впилось в свой трон.
Нескладный переросток дронт,
а раньше динозавр приняли смерть как зрелость,
мир поглотив, сознание людей отъелось
и зацвело, цветок стал плодом, с тем их смысл
исчерпан, ныне тянущимся ввысь
своим твореньям мы балласт и ощущенье,
что нам пора, священное всё несвященней
делает, лишь смех и алкоголь –
две радости верны нам, метко боль
разит, сгоняя нас в водовороты
вневременья. Глядь, гроб там,
гроб здесь. Знакомая работа лет.
Крон до блевоты сыт детьми и ищет туалет.
И эта шваль, в базаре краха хапнувшая даром
лжегосударство на шести гектарах
и полумиллионе крепостных,
мне так понятна в её бзиках расписных
и наркоманской тормознутости! – эскизик,
бесцветный, плоский, покиданья жизнью
двуногой популяции, которого усыпан след
тьмой прытких выродков, чей быт крысин и слеп.
Ну, так какой хочу я славы и свободы
среди вытаптываемого роком сброда
пищеварителей, всё так же раком у корыт своих
примущих апокалипсис? Дреснёй свиньи
присмердывать век будет всё, добытое меж ними.
Сквозь призму нищеты какими же смешными
мои мне видятся величия мечты!
Жонглёр… Воспряну… Вздор. Всё призрачно, лишь ты,
Олеся, двух миров реальность – грёз и яви, –
иллюзий в грусть годам не переплавить,
чем мне черней ты представлялась, тем сильней
тебя любил. С тех первых наших встреч в «Слоне»
я шёл, как тень, за зеркалом, в котором
полнее б отразился я, твоим пороком и отпором
моей любви ты лишь призагибала гладь
его вокруг меня, маня возобладать
над геометрией и разрастись до Бога:
давай, ты сможешь всё – уже ведь смог немного!
Мой мозг был покорён и этот затвердил призыв.
И ныне в сколь бы горькие низы
ни пал мой взор, вонзённый в временные дали,
я знаю, что искал не клаку плюс пенал для гениталий
и стряпщицу (как гении-в-себе
всегда предпочитали), месть судьбе
свою я не предам: как воля заказала,
так мир и спляшет у меня, плацдарм танцзала
ждёт свой армагеддон. Которому любовь – предлог.
Ах, если б я и всех воспринимать так мог…
Меня обогатил лишь срок. Чтоб знать других, не худо б
такое место оккупировать, откуда
взглянуть на них без предрассудных пут.
Тюрьма дала занять мне этот пункт.
Как рвался я изъять из стен тех тело! –
я верил, Дело без меня осиротело,
и хоть хитёр и подл, я верил, как пацан,
что мой конец индуктор их конца –
друзей с меня как будто списанных душою.
Увы, точь-в-точь такими и нашёл их
я, выйдя на свободу: стайка лис,
льва-нежильца найдя, залёгших близ.
Быть преданным собой – всегда бесценный опыт,
я недознал свой горб и вот узнал тьму хлопот,
всосавших мой талант. Вот в чём моя вина:
быть чёрным зеркалом «другой» назначен нам –
я это упустил (верней, изгнал) из виду,
зерцалом тьмы, коллектором обиды,
презренья, зависти, неверия и лжи
должны быть недра ближнего души.
Своим глазам любой, как правило, прекрасен,
но встреча двух всегда есть встреча мразей,
сулящих анус вылизать, как блядь,
лишь б дать спиной к ним встать, чтоб нож по рукоять (на взгляд-баланс их взглядов друг на друга).
Есть исключения, как Макбет и супруга,
когда акценты зла смещаются вовне
и тем, что мир увяз вкруг них в говне,
сильней их связь, прочней их мир с собою.
Мне часто кажется, что сходною любовью
прилеплен я к тебе, моя дитя-жена,
меня загнали смрад и тишина
в больной закут с мигающим во мраке
табло с хернёй над влазом в мир инакий,
я чем-то чувствовал, что здесь начнётся плен,
окинул путь, как свет сквозь полиэтилен,
тускнеющий за мной, и тут, как с небосвода,
мысль снизошла мне: «Вот – резервная свобода!
Вот всё ж контроль над ролью, понятой до йот,
вот то, что режиссёра предаёт
на суд паяцев, нас». И где дотоль дорога
была, там сто дорог, от долов до отрогов
спевают хоры, каждый внемлет лист
любому голосу из тех, что в них сплелись,
прицельному движению судьбины
подставить распылитель, выгнуть спины
лучам, с её жерла завитым в сноп,
единственным путём нас гонит гибель… хлоп! –
и цель пред ней растаяла в тумане
туннеля, исключавшего внепланный
маршрут, в сценарий вписан был побег
в момент игры. Суфлёр нашёл: объект
был абсорбирован средой, украден из-под ока
его. Ловите беглых!!! Снаряжённый роком
заградотряд, висящий на хвосте,
рванулся вслед, в след-бред на пустоте…
Я понял всё. Сквозь слёз невольных морось
я вижу «П» из стен, я сзади слышу голос,
чуть предваряющий, я знаю, палачей.
Приму абсурд как связку от всего ключей,
скажу: вот так и всё, вот так – безаргументно.
Столь обоснован мой тупик, но незаметной,
не должной быть (поскольку чуда нет)
какой-то дверью, вмиг раскрывшейся в стене,
я выскользну за грань просчитанного света,
мануфактуры мойр плановикам «Засуньте свою смету» злорадно брошу. Рок, – который выбрал я!
Ах, струнка грядки, где восстал бурьян!
Тут без просвета в каторжное время
высуществовывая, вот возьму и отогрею,
пропащего зверька, узнавшего людьё.
«Я тот, – скажу ей, – кто отчаялся, как ты. Идём,
вдвоём отчалим от бухим скотом облёванного пира,
венчающего праздник нашей расы. Гибель мира
с изгойства двух берёт необратимый старт,
лишь две души нужны. Мы сможем ими стать?»
И, улизнув от неизбежности зубастой,
в фантазм трансбытия, как Маргарет & Мастер,
бедро к бедру заспинным свивом рук
мы побредём, отбросив прошлому конструкт
непростотой нас ошарашившего мира.
Тонка, легка, смертельна, как рапира,
идея эта ум пронзила мой,
как фейерверк в ночи, как молния, зимой
ударившая в снег, мгновение-другое
и испарившаяся, но покоем
мой разум обделившая с тех пор,
как яд по норам капилляров, в горла пор,
она размножилась по мозговым отсекам.
Представим, так: крутясь по дискотекам
промеж поддатой и патлатой наркотни,
скользить невидимо, искать в глазах огни,
поймать на ощупь хронотоп заветный,
пройти сквозь зал, подсесть к девчонке бедной,
с посаженным на привязь торжеством
упялясь в стол, отбить вопрос: «Чего?»,
разговорить похвастаться наивно
осколками судьбы, сверкающими дивно
в изрезанных ладошах, этот бой
в раскопках воли разгребавших пред собой.
«В страданьи красота, а в красоте – страданье…»
Я вспомнил Китса. И я вспомнил Таню,
моё безумие и боль, державшие сверло
в моём мозгу, я вспомнил, как свело
тогда рассудок судорогой мести,
когда… Но – стоп. Про эту рану рано здесь. Бдит
это прошлое в мне, нынешним пусть скраден его вид, но весь мой дух навечно им повит.
И вот пред мной, быть может, с клоном этой боли
ещё душа, которой чёрт доволен.
Табло споткнуло лампочковый гон,
во мраке слева чёрный стенд как «Чё-рный с-лон»
прочёлся в этой световой синкопе
(и впрямь, по центру намалёван слон), на ручке OPEN
багровым выведено, пуда три двери
мы с Н.Костыркиным с трудом приотворив
ввалились в холл, где с обожжённой мордой
охранник Макс припал на локоть гордо,
мы, не башляв, прошли – был вторник и часа два на
звала халява в один зал «Слона»,
как раз где Бурик пас свой книжный мусор.
Анклав бомжей, поллитры и турусы
над драных покетов и скотча бухт кучемалой –
читальни этой образ. Вспомнилось село
в Немировском районе, мне четвёртый годик,
изба-библиотека (сплошь на ридной мове), ходит
по ней коровница, шукая «россиянских» книг…
Где Буратино – там, усвоил я, пикник
и лёгкий трёп и шмаль. И только я подумал,
тот вынул трубку, зарядил и дунул.
Какой-то экзотический травняк
разнёсся в воздухе. Сказал бы: завонял,
но здесь столь многое сего глагола ждало,
что он не поразил б нимало.
И толпы баб (знал «Книжный двор» я года уже два), однако тут – скорей не из батрачек, из зевак –
в их круге прибыло на чёрную девчонку.
«Точней, черноволосую», – поправил я себя, ещё одну заметив новенькую, негритянку Кэт.
Я зачастил рукой в карман, вниманьем глаз – к руке,
а там, внутри, стонал в давно забытой муки
приливах: не фальшивят ли глаза и руки,
не так бросается ли там, в пяти шагах
мой этот прячемый напрасно страх?
Наверно, дежавю, – так память странно утверждала,
что мы уже… «Когда?» – я вопрошал. Она не знала.
Сегодня, уже год моя жена,
Олеся говорит, что эта мысль смешна;
а там упорно образ рос не помнящей знакомств знакомой,
затягивавшейся, сидя за отдалённым столиком – и
так с её не вяжущеся полом из всех сил
впиваясь в книгу перед ней, что я спросил:
«Ей где-то тридцать?» «Нет, ей где-то двадцать.
Все малолетки любят понтоваться,
кося под стреляных девах», – ответил Николай.
Признаться, тайна её лет меня не так влекла,
чтоб надоесть там с первых дней беседами об оной,
мой гид оглядывался сонно,
и я молчал, бродя за ним, чем, видимо, смущал.
Мой друг (в понятье «друг» я просто обобщал
всех не врагов) был человеком лишним
среди сугубо вредных, чем был ближе
к чужим и недалёким – тем,
кто жив лишь головой и выжил лишь в хвосте.
Он был курьером в нескольких конторах,
писал стихи, любил покинуть город,
как бич, или как Робин Гуд, одет
с кружком принесших вычурный обет
«молдавских тамплиеров». Выжженные души
ненужных миру, коий им не нужен,
в боевиков средневековых царств
превоплотясь, они прорвали пласт
людского перегноя Кишинёва
и скрылись глубиной, что в мире сём не ново.
Он повторил: «По-моему, ей двадцать
и это Леся». «Ну, я так украдцей
прознал, что это Буратины блядь». «Навряд ли, нет.
Хотя… теперь я редкий гость в «Слоне», –
здесь платный вход и крутят кислоту, а
это, знаешь, не по мне». «Возьмём два стула», –
я предложил магистру. Рыцарь сел,
не лязгнув амуницией (которой нет), но все
метнули взгляд туда, где взялись он и человек весь
в чёрном – нелегал, в народе «доктор Геббельс»,
сорвиголовый лжец, глава политгазеты,
затем в тюрьме строчивший повесть эту, –
метнули взгляд и вновь втянулись в сплин.
Я размышлял, зря интерьер. Сопля и клин
преобладали в нём и полки с пёстрой рванью,
в углу, как труп утопленника в ванне,
размазался Монах – О.Гвин – с задратой бородой,
подпёршей сальный грибошляп рудой
на власяном кусте, должно быть, головою
служившем этому пропойце и ковбою.
«Движенье чистого добра» – так его сон
звался, которым он и доставал, покуда «Слон»
не стал слоново толстошкур к Монаху,
при слоге «дви…» он посылался нахуй
и вскоре сам уже на план свой забивал,
в конце концов став грязен, зол и вял.
Да, забивал он «план», как я проговорился,
ну так уж всё скажу: он был маэстро шприца,
и вместе с тем бухал, и чтил анальный трах,
и был порнограф, и… и… Разве что не был монах.
Вульгаризатор книг по кличке Буратино
представил нас друг другу. «Как противно!», –
чуть на его «Как дивно!» не ответил я, пожав
одну из рук его (казалось, что одну из жаб).
И был антракт в моём впиваньи Леси:
Монах, воспряв при свежем интересе,
как счёл он сам иль Бурик объяснил,
к его «Движенью», влил остаток сил
в язык, освинцовевший с перепою,
и, парой глаз над страшной бородою
уставясь мне в живот сквозь стол,
понёс про что-то, пахшее Христом.
Мой ум лишён уменья помнить бредни,
и в связи с тем историк не отметит
благодаря тому, что Лесин муж поэт,
скорей возникнущий в учебниках, чем нет,
нюансов инициативы
монаховой, что он ретиво
мне излагал. За тем убился час.
Исчерпан был идейный пляс,
взгляд излагателя опять обрёл стеклянность.
Ничто как результат я не считал за странность
уже в период, о котором речь,
я знал, что словеса умеют течь,
а рты – их лить, но этому процессу
плоды не свойственны. Где, где моя принцесса? –
я теребил вниманье. Не терпя, назад
в зал за спиной сбежать мой рвался взгляд
и плавнейше, по градусу в сто слов его, мой профиль
сменял анфас. Монах, насупив брови,
мне нет да пожимал рукав,
я, спохватившись, выдавал: «О да, ты прав!»
и честно-начестно пытался въехать в дело,
рывок… другой… но, чувствую, заело,
и я сдавался, и включался бред:
изгиб её бровей, и шея, и каре,
и попка, прикрываемая краем
худого куртяка (встань раком – и стань раем),
и чёрной блузкой стянутая грудь
мне вновь сквозь явь протаивали. Жуть.
Суть не ловя, я чуял – лектор на исходе.
«Но факт, что чисто доброта не производит
беспрецедентный факт чистейшего добра»…
Монах поповторял это раз сто и смолк. Ура,
он кончил!.. Я чуть было тоже.
Сыграв лицом восторг, я вымолвил: «Ну что же,
великолепный план. Нам надо обсудить,
с чего начать. Ведь, благо, впереди
у нас среда, четверг…» (вниманье и практичность –
два славных качества моих: зачем терять наличность,
а не найти промеж богемными детьми,
кто даст мне вечный флаер в Лесин мир?
Таких потом я вербовал немало.
Монах был первым, чья душа подпала
под власть моей игры. Я роль мне создавал
для каждого из них: кто кем желал
меня увидеть, тем тому являлся.
То я ей друг, то по уши влюблялся
в неё, то друг её отца, то одноклассник, то
клиент, то муж, то брат, то грешник, то святой,
то кредитор, то чей-нибудь посланник).
Итак, услав Монаха сообщить охране,
что вхож бесплатно в сей бомжовский клаб
барон фон Геббельс, встав из-за стола,
я медленно побрёл для вида к полкам
и зреньем боковым ловил её. Но только
её там не было уже. Пошла играть в бильярд.
«С кем?» – сразу мысль, и в сердце капнул яд.
Ни разу не здоровались мы даже,
а я уже, как муж, при ней на страже.
Не удивительно, что если я таки не знал
её до этого, как думал, мозг всё ж показал,
что да: мы чувствуем и красоту, и давность
как разность «помнимое минус данность»,
иначе говоря, эффект прекрасного таков,
как будто бы знаком с ним множество веков,
так что год-два реальной или мнимой
добавки памяти к моей любви озимой
есть лишь сгущенье чувства этого, как вроде бы времён
субтильный шлейф скатался вдруг в рулон –
столь ощущаемый, что протаранив
сознание, предстал воспоминаньем.
Машины времени гараж – у нас в душе.
Трусы меняя реже, чем мужей,
она не ведала, что умножает бомбы
под тем гнездом, что с ней едва совьём мы.
Но кто я был тогда ей? Некий тип,
надумавший разок зайти
позависать в «Слоне», и всё. Когда б знала ты,
девчонка, что я возчик контрабанды
из небытья в бытьё, что привиденья мной
выходят на простор земной,
и я приду забрать тебя в супруги,
глаза твои расширились б в испуге,
ты удрала б и в град, и босиком…
но нет, не знала ты. И ты жила легко
до первых взрывов, все интимные допросы,
досмотры дневников – ты принимала просто
как интерес, что, разумеется, возник
у сотого самца до девяноста девяти других, –
мол, ревность не гнушается и пошлым.
А это страсть сбирала по сусекам в прошлом
критическую сумму фактажа,
чтоб сделать через годы шаг
пресечь ретроспективную измену.
Пресечь свершённое? Умом «обыкновенным»
проблема эта и не ставится. Ну, месть,
ну, сожаление, ну, злость… Но здесь
не так: ведь я живу с посылом,
что между тем, что есть, что будет и что было,
необратимых переходов нет.
И вот мой плод – салют из экспонент
обжёг всё у меня внутри, перевалило
всё через край и чувства оглушило.
Её судьбе не разрешал я мелочей,
отмасштабировав любых, кто дорог ей
когда б то ни был, по её размеру
в моих глазах, и лишь себя я убедил несмело,
что явь срасталась уж для пары «я – она»,
как у сиамских близнецов спина,
то ль на две тысячи втором, то ль ниже,
как тут же весь её былой мальчишник
обрушился ко мне в постель,
я задолбался выгонять гостей
из ойкумены нашей с ней приватной,
покуда мозг мой жив, открыт им путь обратно,
всё вынесу, стерплю, не дам ей стать чужой,
но скорбь большая от любви большой…
Я бросился в бильярдную. Всё верно:
телёнок в джемпере рубился планомерно
с моею в снукер, девочка цвела.
Елозя областью лобка о край стола,
она ложилась на сукно с поднятым задом,
стремясь дать фору глазкам слеповатым
(клиентов не было, и стоимость двух линз
кусалась). Взгляд врага гулял вверх-вниз
по ляжкам. Но что брюки укрывали
две спички, возбудящие едва ли,
что худенькая грудь и рёбер явный из-под кожи ряд
одна лишь кофта греет, гормональный яд
не дал увидеть мне, бычонку с кием
и ста процентам всех иных, бухими
припёршихся за ней в бильярдный зал
дать поискать в её паху глазам.
Ключ к ней лежал почти у всех в карманах,
она слизала бы с любого крана
за пять условных, в среднем был тариф
такой, но – мало кто знал правила игры:
почти наверное, пристань к ней с суммой этой –
и снищешь «па мардам» взамен минета.
С халявой куда проще, но её
она сама любила как приём:
«я бескорыстно дам, чтоб ты дал бескорыстно»
(звучит как парадокс, а ныне ведь и присно
так строилась семья, негласный договор, –
согласен, всё же договор, но вот с тех пор,
как мы о нём молчим, он есть уже другое).
Об этом я прознал, когда уж далеко мы
зашли с ней. Но в тот вечер я сгорал,
забив на правила, поскольку не играл,
и ждал, когда же предложить ей в нарды
(вторая страсть её) померяться азартом.
Я по шарам так неуклюже бил,
что понял, что представлюсь как дебил,
начав с бильярда. Да, цеплял я Лесю
вполне рассудочно, насаженный на гейзер
тончайший акведук – мой интеллект рассёк
на веточки задач желания поток.
Не знал, что голодна она, что у неё нет дома,
мой взгляд интоксикатом половой истомы
пропитан был, и методологическую нить
к тому, как ей в вагину или в рот спустить,
неспешно прял курсуемый им разум.
Я жил в режиме перманентного оргазма
все те недели. Взял за правило вдруг спать
в чём родился, мой член стал не влезать
под плавки и т.д. А мозг плевал на то, что я ей грежу, –
в её судьбе ища гостеприимных брешей.
На подо мной стонавшую пока лишь в снах
желанный компромат мне слили скоро. Слил Монах.
Ему, еврейке, спавшей с Буратино,
и мне случилось за полночь пройтись за пивом
до примэрии, где вблизи всю ночь
открыто нужное тем, кто бухнуть не прочь.
Я к горячительному холоден, как робот.
Мне скучен трёп. Но, наступив на ропот
сонливости и вкуса, я сказал: «Пройдусь,
пожалуй, с вами», вывесив на фейсе грусть.
И проглотив, что мне лишь заскучалось,
она и он в пути всё-всё, любую малость
конкретизируя, поведали о той,
кого, я преподнёс им, будто счёл святой
(стандартный финт выманиванья тайн):
– Ширяется… – Не может быть! – Да-да…
даёт за дозу. А вчера вот за полтинник
ходила предлагалась всем… – Противно
слышать. Сплетни, ложь и вздор!
– Ах, так! Да знаешь ли ты, что… И так наш спор
открыл мне всё, что было им открыто,
каких грехов за ней толпилась свита,
что ей потеряно и с кем она теперь
(ни с кем – узнал, и стало мне теплей).
Мне не поверилось, что промыслом, чья древность
вошла в фразеологию, она жила. Потребность
моя не этого искала в ней, душа доклад
тех двух не к «сведеньям», а к «мненьям» отнесла
в процессе сортировки, что ж, в дальнейшем
мне бы найти её знакомцев понесвеже
которых ни симпатии, ни месть
не мотивировали б лишнее привнесть
в портрет Олеси. Но раз субъективность,
два субъективность, три… и плюс ли, минус
жирнел напротив той или иной черты
его и нивелировал аванс в нём красоты,
в другую Лесю начал я влюбляться.
Всех удивит, как мог я любоваться
как раз тем отвратительным, что в ней
нашли знакомые, родня и череда парней,
но это правильно: ведь всем же неизвестно,
какую ненависть я к ним питаю честно,
настолько, что воззрения и вкус всех-всех
топчу я, обожая грязь и грех.
Подобности не дружат – вот причина.
Лишь став не человеком, а мужчиной,
я потянулся к стаду, знав, что эксклюзивно там
произрастают организмы нам в пандан.
Так биология и спесь во мне схлестнулись.
Встать в очередь из аспирантов улиц? –
Да ни за что! Как в годы старины
аристократ не дрался на дуэли с крепостным,
так выжимать талант свой я не стану,
чтоб первым свой вместо чьего-то вставить.
Это как вырвать кость из пасти пса.
Нет, от любви хочу я чудеса.
Но кто сказал, что чудо будет громким?
С любимой в шалаше. Но где! – у самой кромки
обрыва в тартар, где колбасит мир.
Нужна мне, чтоб не перестать быть мной самим
плоть-под-рукой, в которой я укроюсь
от клика похоти, водившего меня к «другим». И повесть
даже эта, понял я спустя страниц шесть-семь,
не о любви к одной, а о презрении ко всем.
Кого я обобщил в таком местоименье?
Все – это младшее из поколений
объектов мира, старшее из коих «Я».
Не я, а «Я». Как виды современных обезьян –
не наши пращуры, а только лишь кузены,
так и живущий ныне – это бренный
фрагмент «существ истории» как то:
идеи, нации, ландшафты, городов
и стран консорции, и рядом
столь исключительные концентраты
всех черт реальности, как вот сознание моё.
Мне ровня – масса, а не элемент её.
Народ старее, чем какая-нибудь личность,
и узко-личное вонючей и практичней,
чем историческое. Я стал перекрёстком эр,
и стран, и вер. Я новые Дидро и Д’Аламбер
для современности. Я персонально старый
(в одном, а не сот тысяч тел в составе),
мой ум – непризнанный твоею красотой
молочный брат. Вот отчего он так жесток.
Весь наш с тобой роман прошёл под сенью
закона этого: что красота и время
корреспондируют друг другу. Мягко говоря,
я отвратителен и внешностью, и нравом, но вверял
несчастье это срокам. Всё что ни возможно,
твердил себе, Андрей, предпринимать ты должен,
лишь хоть бы только дольше быть при ней,
побольше в мозг ей напустить корней –
и наклонить к себе прекрасного стандарты,
шлифуемые там. Прикинуться богатым
сторонником её разгульных мер
«раскрыть себя» посредством тьмы химер,
сменяющих друг друга ежечасно, –
вот всё, что оставалось близ лжесчастной
этой бэби. Долго ещё отрезвить
её не рисковал я. С год спиртные ассорти и винт,
шальные ёбари и рецидив панели
владели ей и, нервов оттянув качели,
разжали пальцы, выпустив в меня.
Так, наконец, её – в паденье – я обнял,
но с этих пор я равновесие утратил
и, как ни изгибался, всё обратно
его никак вернуть себе не мог.
Я утомился, перенервничал, морально взмок,
уверенность подрастерял, и скоро
на свой стал идол я посматривать с укором
и подсознательно выруливать в объезд
Олеси предо мной к Олесе из страны чудес.
Секрет мечты моей – в стремлении к контрасту:
как воин – войн, я алчу зла как повода к участью
на стороне добра. В конце я, оболгав её, в тюрьму
отправил. Ад, я твой! Плевать. Но только никому
ни жеста и ни слова моей роли.
Уехав в Кишинёв, в своей юдоли
тогда я так метался из-за дум –
что за прикол, что за интим, что за еду
преемник мой ей сможет предоставить.
Подлечит он её? На ейных корешей надавит,
зажавших скарб и документы? Примет он
её наивный эгоизм и моветон?..
Иначе говоря: он станет меня лучше?
Вдруг да? Итак, есть Карфаген. Разрушить.
В четвёртый раз вернусь к ней как лже-принц,
что мог лишь жизнь её на стадии руин
задерживать, круша любой альтернативный
проект чертог ей дать, под стать ей дивный,
но – как и следовало ждать от чувственных натур –
сам бывший слаб на нечто вроде. Авантюр
я много провернул, но аппетит таланта
у Леси крал плоды их. Вся немалая зарплата
политиканская сжиралась духом, весь досуг
шёл на него. Я весь стал дух, не друг и не супруг.
Герой линял во мне. Отчаявшись, я бросил оборону
от внешней суеты, – теперь план мой коронный
найдёт прибежище в том миллионе букв,
что жизнь твою под былью погребут,
моя Олеся. Ещё там, в тираспольской общаге,
как я страдал, что предаю тебя бумаге,
что к телеку, кастрюлям и компу
тебя отталкиваю я, чтобы расчистить путь
процессии из фраз пугливых и капризных,
меж моей ленью и моим идеализмом
раздёрганных. Как тяжко было в ночь
проваливаться на кровати, пеленой,
с бечёвки бельевой свисающею, огражденной
от уголка, где ты в Half-Life постреливаешь сонно.
Один сообщник мой всё, помню, повторял:
«Ах, как это было б в стихах!» И зря.
Вот текст-шедевр, граниты слов легли в нём
так в лад, как словно плитки пластилина
свели, температурящими пальцами размяв,
с тем чтоб и мысленно их больше не разнять.
Но что я совершил во имя совершенств стихов! О,
как я часто упрекал себя, что этот зарисовок,
со столькой полнотой вобравший образ твой,
я согласился оплатить тобой живой…
Принять себя мне легче негодяем,
чем неумельцем, кому в груз семья, – и
я нас похоронил, чтоб склеп наш колыбелью стал
для текста этого: рождение в беловике листа
(второго… третьего…) я праздную душою,
как встарь свидание с тобой, сквозь шторы приглушённо
сочится свет в нору, заклятьем немоты
объятую, где текст и я, его отец, живём, а ты –
ты задыхаешься, любовницей карманной
у графомана став, постель-тюрьма и женские романы
твою борьбу и рой твоих надежд
сменили, вид твой кисел и твой день несвеж,
кошмар моих ночей – несмерть твоей свободы,
дать волю тебе – всё равно что воды
спустить околоплодные душе,
беременной Спасителем. Уже
не вправе я к тебе быть справедливым
как человек. Я мастер, а ты глина.
Другой морали вверен наш союз.
Из страха потерять – того, что ты жива, боюсь;
и так любил, что крыша от разлук слезала,
а преступленье крепче привязало.
Немало говорят, что «наша жизнь грязна»,
но кто и впрямь познал глубь пропасти без дна,
в которую лететь, потешно кувыркаясь,
и означает – жить?! Хоть злобствуя, хоть каясь,
мы падаем, всё ускоряется наш рейд
к вершинам низости. В тропической жаре
природой созданы слоны и бегемоты,
вот так и наш род толстым кожухом обмотан
и укрупнён, порог страдания взлетел
для наших душ с прогрессом дел по ублаженью тел,
в игре ума окреп землянин современный
и, не в пример тому, что прежде, редко с пленом
страстей знаком, и то, как правило, тогда,
когда он пьян или когда беда.
Что в целом ход вещей – трагедия, настолько
немыслимая мысль для трудоголика
из агро- и индустриальных дыр,
как Гондурас с Молдовой, так не протаранить льды
души, как мертвечина, неранимой,
что посыпь слов должна быть лишь сравнима
со взрывом звёзд, иначе не судьба
ей что-то заронить. А нынче речь груба,
сравнительно со смыслом. Суггестивна
лишь для собак: «фас!» – и для разума мастиффа
звук есть приказ, семантика его проста.
Сегодня человек вообще не любит старт,
которому предпочитает плавность
и связность, не ведётся за нос,
хотя повсюду и суёт свой нос,
однако любопытств своих запрос
теперь не называют кабалою,
как в средние века, кумиров публики не ловят,
чтоб линчевать или пустить на угли, но
и вместе с тем, во что ни заглянёт, «всё под луной
старо» найдёт, зевнёт, ещё зевнёт… За тем, как
живёт желудок, кал колышет стенки
кишечника, за пульсом, за процессами в груди
при вдохе-выдохе осоловело ум следит
его. Шустрят два-три маньяка где-то рядом,
но буржуа их не одаривают взглядом,
не отвлекаясь от нирваны, раз в сто лет
одни жлобы приветят чей-то бред
назло другим – и Ленин, Гитлер, Линкольн
гемоглобином выкормят олимпы
свои, что, грохнувшись, убольшат поперёк объём
томов о том, как «плохо быть зверьём».
Такой конфуз, пожалуй, ум наш впустит,
но пустота вокруг всё не предмет для грусти,
но чёрствости плоды лелеемы всё тьмой,
а папа Пан всё не зовёт домой –
и до полуночи мы, юные хирурги,
осколком вскрыв живот брюхатой мурки,
прикалываясь с воплей, полных боли и тоски,
во рдяных пятернях мнём жизни первые ростки.
Я изумлялся нам с детсада, а сейчас
на эту жизни нерешимую задачу
мне кажется, что я нашёл ответ:
жизнь – это страсть, за молодостью жизни нет,
весь зла секрет в том, что взросление жестоко.
Как каменеет свет в мгновенье ока
вслед за гашением в нас бешеных огней,
в перволюдей душе затепленных в придачу к ней!
Как руки Мидаса, творим мы неживое
своим касанием и в вещь как в зеркало – уже кривое –
потом взглянув, находим в нём ту омертвелость форм,
что ей придали собственным волшбством,
находим раз, другой, ещё, а там послушно
мы смимикрируем под мир вокруг бездушный
и промерзанья планку круче в духа глубь
задвинем, чтобы, вновь ощупав трупный луб
всего наружного, на бис свой вывесть вывод…
и так цепной метаморфоз без перерыва.
Дрожит листва, бежит по рекам рябь,
пропитан небосвод разливом янтаря,
здороваются голуби со всеми,
для них Христос воскрес семь раз, и воскресенье
все дни недели открывает им заря,
а рядом мы – и жили, и сдыхаем зря.
Существовать не радостно. Нелепо
вмечтаться в рай грядущего – без хлеба,
который не отнимешь, без крова, за который не убьёшь,
без «родственной души», которой не соврёшь.
Кто больше чист, тот более ничтожен.
Из городов повымирал небронекожий,
и лишь по весям нежный дед-олигофрен
живёт кой-где, иммунитет от перемен
найдя в двух акрах пашни и чулане,
ему доступно разве что листанье
подобных этой книг. Но тот, кто всё поймёт,
кто, нам подобно, пьёт огонь и лёд
столиц, – пробиться под его покров бетонный –
вот подвиг этих строк. Они его достойны,
двух лучших душ мучительная смерть
была цена им. Долго, сколько свет
ни простоит, никем не превзойдётся
история про то, как рок пороку и уродству
проиграл, как новой белизны и красоты
побегам травля нас расправила листы.
Не за горами год, когда героям этой книги,
забот о дольнем довлачить вериги
свои до тихого финала: конура,
обосранный матрас, жар, бакш лекарств и мрак.
Наш прах смешается с других млекопитавших прахом,
на том, казалось бы, и всё – мы выиграли агон
и с призом удались в ад.
Но нет, нет, нет: кулисная кисва
там где-то вдалеке, мы ведаем развязку,
однако не как данность, а как маску
«возможно будущего», к коему наш путь
ещё немал. Порой влечёт, – но не в гробу, –
уснуть, но верим мы, что сможем пробудиться,
мы соль небес и мы земные птицы,
мы гиды гибели, отведавшие жизнь,
таящуюся в ней, неснившуюся высь
осилившую заселить. Наш воздух ожиданье.
Останемся, состаримся цветами,
но не которых соки переходят в плод,
а теми, что рука живьём сожнёт –
тебя, меня, – и бросит на могилу парой.
Пред нашей пьесой занавесь упала
не здесь, запутана надежды нить,
навек в кромешном свете мы одни
остались со своей тропиной-невидимкой,
есть срок, в него Андрей и Эвридика
уложатся (ведь так, любимая?), а там –
прощай, страдание, и здравствуй, пустота.
|