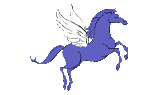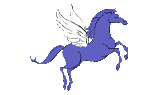Каждый может относиться по-всякому к его творчеству, к его личности, к его гражданской позиции. Но сегодня мне бы просто хотелось здесь опубликовать некоторые, любимые мною (надеюсь. не только мною) его стихи.(Или отрывки) Далеко не все.
-------------------
…Как сердце жмёт, когда над осенью,
Хоть никогда не быть мне с ней.
Уносит лодкой восьмивёсельной
В затылок ниточку гусей!..
Т О С К А
Загляжусь ли на поезд с осенних откосов,
Забреду ли в осеннюю деревушку –
Будто душу высасывают насосом,
Будто тянет вытяжка или вьюшка,
Будто что-то случилось или случится –
Ниже горла высасывает ключицы.
Или ноет какая вина запущенная?
Или женщину мучил и вот наказание?
Сложишь песню – отпустит, а дальше – пуще.
Показали дорогу, да путь заказали.
Точно тайный гроб на груди таскаю-
Тоска такая!
Я забыл, какие у тебя волосы,
Я забыл, какое твоё дыханье,
Подари мне прощенье, коли виновен,
А просивши – опять одари виною…
ШУТЛИВЫЙ НАБРОСОК
Живу в сторожке одинокой,
Один-один на всём свету.
Ещё был кот членистоногий,
Переползающий тропу.
Он, в плечи втягивая жутко
Башку, как в чёрную трубу,
Вещал, достигувши желудка,
Мою пропащую судьбу.
А кошка – интеллектом уже,
Знай, штамповала деток в свет,
Углами загибала ушки
Им, как укладчица конфет.
Т И Ш И Н Ы !
Тишины хочу, тишины…
Нервы, что ли, обожжены?
Тишины…
Чтобы тень от сосны,
Щекоча нас, перемещалась,
Холодящая, словно шалость,
Вдоль спины, до мизинца ступни,
Тишины…
Звуки будто отключены.
Чем назвать твои брови с отливом?
Понимание – молчаливо.
Тишины.
Звук запаздывает за светом.
Слишком часто мы рты разеваем.
Настоящее – неназываемо.
Надо жить ощущением, цветом.
Кожа тоже ведь человек,
С впечатленьями, голосами.
Для неё музыкально касанье,
Как для слуха – поёт соловей.
Как живётся вам там, болтуны,
На низинах московских, аральских?
Горлопаны не наорались?
Тишины…
Мы в другое погружены.
В ход природы неисповедимый.
И по едкому запаху дыма
Мы поймём, что идут чабаны.
Значит, вечер. Вскипает приварок.
Они курят, как тени, тихи.
И из псов, как из зажигалок.
Светят красные языки…
* * *
Ты поставила лучшие годы,
Я – талант.
Нас с тобой секунданты угодливо
Развели. Ты – лихой дуэлянт!
Получив твою меткую ярость,
Пошатнусь и скажу как актёр,
Что я с бабами не стреляюсь,
Из-за бабы – другой разговор.
Из-за Той, что вбегала в июле,
Что возлюбленной называл,
Что сейчас соловьиною пулей
Убиваешь во мне наповал!
* * *
Проснётся он от темнотищи,
Почувствует чужой уют
И голос ближний и смутивший:
«Послушай, как меня зовут?»
Тебя зовут – весна и случай,
Измены бешеной жасмин,
Твоё внезапное: «Послушай»… -
И ненависть, когда ты с ним.
Тебя зовут – подача в аут,
Любви кочевный баламут,
Тебя в удачу забывают.
В минуту гибели зовут.
НОВОГОДНЕЕ ПЛАТЬЕ
Подарили, подарили
Золотое, как пыльца.
Сдохли б Вены и Парижи
От такого платьица!
Драгоценная потеря,
Царственная нищета.
Будто тело запотело,
А на теле – ни черта.
Обольстительная сеть,
Золотая ненасыть.
Было нечего надеть,
Стало некуда носить.
Так поэт, затосковав,
Ходит праздно на проспект.
Было слов не отыскать,
Стало не для кого спеть.
Было нечего терять.
Стало нечего найти.
Для кого играть в театр,
Если зритель не на «ты».
Было зябко от надежд,
Стало пусто напоследь.
Было нечего надеть,
Стало незачем надеть.
Я б сожгла его, глупыш.
Не оцените кульбит.
Было страшно полюбить,
Стало некого любить.
===========
Стихи не пишутся – случаются,
Как чувства или же закат.
Душа – слепая соучастница.
Не написал – случилось так.
========
Занавесить бы чёрным Байкал,
Словно зеркало в доме покойника.
Из стихотворения «Смерть Шукшина»
ПЕРВЫЙ ЛЁД
Мёрзнет девочка в автомате,
Прячет в зябкое пальтецо
Всё в слезах и губной помаде
Перемазанное лицо.
Дышит в худенькие ладошки.
Пальцы – льдышки.
В ушах – серёжки.
Ей обратно одной, одной
Вдоль по улочке ледяной.
Первый лёд. Это в первый раз.
Первый лёд телефонных фраз.
Мёрзлый лёд на щеках блестит -
Первый лёд от людских обид.
Поскользнёшься.
Ведь в первый раз.
Бьёт по радио поздний час.
Эх, раз, ещё раз,
Ещё много, много раз.
==========
Можно и не быть поэтом,
Но нельзя терпеть, пойми,
Как кричит полоска света,
Прищемлённая дверьми!
* * *
Почему два великих поэта.
Проповедники вечной любви,
Не мигают, как два пистолета?
Рифмы дружат,
А люди – увы…
Почему два великих народа
Холодеют на грани войны,
Под непрочным шатром кислорода?
Люди дружат,
А страны – увы…
Две страны, две ладони тяжёлые,
Предназначенные для любви,
Обхватившие в ужасе голову
Чёрт-те что натворившей Земли…
Далее - из личной переписки:
Дина, только что в форум завёл новую тему Умер Андркй Вознесенский. Посмотри.
Завёл далеко не всё из своей личной антологии.
Отношение к Андрею у меня не однозначное, многое ценю.
Вот сегодня, после 16.00 по-московскому, когда узнал, и до сих пор в голове вертятся строки из его "Лонжюмо":
(по памяти)
Однажды. став зрелей, из спешной повседневности
мы входим в мавзолей. как в кабинет рентгеновский -
вне сплетен и ленегд, вне суеты и фраз
и Ленин, как рентген. просвечивает нас.
И так далее. Многое знаю наизусть. Не лень - посмотри. Кто кого предал?
В заключение - из моего:
Передрался Передреев
С Вознесенским
вдрызг
при жизни.
Как поэта и как личность
Бичевал, уничтожал.
Неприязнь и отторженье!
Но в тетради моей общей
Рядом оба со стихами –
Анатолий и Андрей.
Знаешь, думаю, что согласишься, что ничего секретного в данном письме нет. Уверен, что не будешь против. если я его сейчас заведу на форум.
Анатолий Лемыш 01.06.2010 13:30:58
Скончался Андрей Вознесенский...
01.06.10 13:19
Умер Андрей Вознесенский
Выдающийся российский поэт Андрей Вознесенский скончался после тяжелой продолжительной болезни на 78-м году жизни. А.Вознесенский умер у себя дома.
Андрей Вознесенский родился в семье гидроинженера 12 мая 1933 года в Москве. В 14-летнем возрасте послал свои стихи Борису Пастернаку, дружба с которым оказала сильное влияние на его судьбу.
В 1957 году А.Вознесенский окончил Московский архитектурный институт, отметив это событие стихами: "Прощай, архитектура! Пылайте широко, коровники в амурах, сортиры в рококо!.."
Первые стихи поэта, сразу отразившие его своеобразный стиль, были опубликованы в 1958 году.
Его первая книга стихотворений и поэм "Мозаика" вышла во Владимире в 1960 году. В том же году в Москве была опубликована книга "Парабола".
В 1963 на одной из творческих встреч в Кремле тогдашний советский лидер Никита Хрущев резко высказал поэту: "Забирайте ваш паспорт и убирайтесь вон, господин Вознесенский!" Однако книги А.Вознесенского продолжали печатать, их тираж достигал 200 тысяч.
В 1962 году вышел сборник стихов "Треугольная груша", написанный после поездки поэта в Америку (1961). В 60-е годы А.Вознесенский много ездил по Европе, читал свои стихи в Париже (1963), в Мюнхене (1967). В Нью-Йорке его выступления были запрещены.
Автор поэтических сборников "Антимиры" (1964), "Ахиллесово сердце" (1966), "Тень звука" (1970), "Взгляд" (1972), "Выпусти птицу!" (1974), "Дубовый лист виолончельный" (1975), "Витражных дел мастер" (1976), "Соблазн" (1979).
В 1979 году А.Вознесенский публиковался в альманахе "Метрополь". В 1981 году он выпустил книгу "Безотчетное", в 1984 - "Прорабы духа. Прозаические и поэтические произведения", в 1987 - книгу "Ров. Стихи и проза", в 1990 - "Аксиома самоиска", в 1991 - "Россiя, Poesia".
На стихи поэта режиссер Юрий Любимов поставил в Театре на Таганке спектакль "Антимиры", композитор Алексей Рыбников написал рок-оперу "Юнона" и "Авось", а Марк Захаров перенес ее на сцену Ленкома.
Лауреат Государственной премии СССР (1978).
Сергей Павлухин 01.06.2010 15:25:05
Как бы кто к нему ни относился, но одно можно сказать с полной уверенностью: русская литература обеднела на еще одного настоящего Поэта...
По-разному оценивают творчество Андрея Вознесенского, но для меня он навсегда останется в памяти как тот человек, который привил мне искреннюю любовь к стихам. Когда мне исполнилось пятнадцать лет, то в мои руки попал сборник "Ахиллесово сердце". Поэма "Оза", "Молитва битника", "Флорентийский гараж"...
И сегодня в моей библиотеке есть несколько книг Вознесенского, правда - уже не каждый год я обращаюсь к него стихам.
А вот на память, пожалуй, больше всего помню именно его строчек.
Пусть Андрей Вознесенский обретет покой. Призание у него было уже при жизни.
Александр Лысенко 01.06.2010 15:29:53
Нам, сермяжным простякам, не понять гениев!.. Помню, в "Литературке" опубликовали подборку... гм! гм! произведений Вознесенского. Нескладухи какие-то, или стихи в прозе - не знаю, не понял. "Крестики и нолики" называлось. Помню одну: "У крестика спросили - где выход? Там! - ответил крестик."
Глубокая мысль, что и говорить.
Геннадий Агафонов 01.06.2010 18:31:49
В 1963 на одной из творческих встреч в Кремле тогдашний советский лидер Никита Хрущев резко высказал поэту: "Забирайте ваш паспорт и убирайтесь вон, господин Вознесенский!" Однако книги А.Вознесенского продолжали печатать, их тираж достигал 200 тысяч.
* * *
Тут хорошо бы напомнить что юный поэт отметился Славе КПСС верноподданической поэтой «Лонжюмо» (1963)
— посвященной вождю мирового пролетариата. Не стоит из него страдальца-диссидента лепить.
Из песни слов не выкинешь.
Михаил Бар 01.06.2010 20:06:53 (Ответ пользователю: Геннадий Агафонов)
Да, о мертвых... или хорошо, или правду!
___________________________________________
Антиисповедь А.Вознесенского
Не отрекусь...
Не откажусь...
Не отступлюсь...
/Надпись на "избранном" -
А.Вознесенский/
Не отрекусь...
Лениниану
Творил, лишаясь
Я лучших снов,
Но, если надо,
Медведиану
Сварганю за ночь
Я в тыщу слов!
Не откажусь...
Но я заблудшей
Овцою не был
Как и глупцом,
Но если надо
Из самых худших
Я стану лучшим
Из подлецов!
Не отступлюсь...
Я врал когда-то
В угоду власти...
Теперь не вру!
Но, если надо,
Что было свято
В поэме новой
Я обосру!
Дина Немировская 02.06.2010 06:46:09 (Ответ пользователю: Михаил Бар)
"Самоубийство - мириться с дрянью.
Самоубийство - бороться с ними.
Самоубийство - когда бездарен.
Когда талантлив - невыносимее".
(А.Вознесенский. Монолог Мерлин)
Бар, Вы в игноре...
Елена Дымарская 01.06.2010 20:06:54 (Ответ пользователю: Геннадий Агафонов)
Никто из него страдальца не лепит. А поэт отличный! Что же касается "Лонжюмо", то написана поэма блестяще. И каждый, особенно в молодости, имеет право на заблуждения. Мудрость и понимание, увы, приходят с годами...
Дина Немировская 01.06.2010 19:31:20
В телеграмме, направленной премьер-министром РФ Владимиром Путиным вдове Вознесенского, говорится: «Ушел из жизни выдающийся русский поэт, наделенный ярким, самобытным талантом и необычайно острым ощущением эпохи. Для многих людей — и в нашей стране, и за ее пределами — Андрей Вознесенский стал истинным властителем дум. Его стихи, проза — были гимном свободе, любви, благородству, искренним чувствам».
Он — автор множества поэтических сборников, среди которых — «Треугольная груша», «Дубовый лист виолончельный». Жизнь подтвердила пророчество мастера, написавшего о себе в молодости: «Андрей Вознесенский будет…». Многотысячные аудитории собирали поэтические вечера, в которых вместе с Евгением Евтушенко, Робертом Рождественским, Беллой Ахмадулиной громко звучал и голос Вознесенского. Его фразу «Земля качается в авоське меридианов и широт» повторяла тогда вся страна.
Бузилка 01.06.2010 19:37:40
а я часто цитировала его слова, очень уж красиво сказано было:
"стихи не пишутся - случаются,
как чувства или же закат.
душа - слепая соучастница,
не написал - случилось так."
Виолетта Баша 01.06.2010 21:13:56
Узнала днем...
в шоке...
такой поэт, любимейшие стихи
и Политех
шестидесятые
...
и невероятно любимая "Юнона и Авось"...
светлая ему память...
Виолетта Баша 02.06.2010 06:32:23 (Ответ пользователю: Виолетта Баша)
И в моей стране, и в твоей стране
до рассвета спят - не спиной к спине.
И одна луна, золота вдвойне,
И в моей стране, и в твоей стране.
И в одной цене - ни за что, за так,
для тебя - восход, для меня - закат.
И предутренний холодок в окне
не в твоей вине, не в моей вине.
И в твоем вранье, и в моем вранье
есть любовь и боль по родной стране.
Идиотов бы поубрать вдвойне -
и в твоей стране, и в моей стране.
Андрей Вознесенский,
"Американский романс"
1977
Анатолий Лемыш 01.06.2010 22:48:58
Давайте вспомним стихи Андрея Андреича
Андрей Вознесенский
Осень в Сигулде
Свисаю с вагонной площадки,
прощайте,
прощай, мое лето,
пора мне,
на даче стучат топорами,
мой дом забивают дощатый,
прощайте,
леса мои сбросили кроны,
пусты они и грустны,
как ящик с аккордеона,
а музыку — унесли,
мы — люди,
мы тоже порожни,
уходим мы,
так уж положено,
из стен,
матерей
и из женщин,
и этот порядок извечен,
прощай, моя мама,
у окон
ты станешь прозрачно, как кокон,
наверно, умаялась за день,
присядем,
друзья и враги, бывайте,
гуд бай,
из меня сейчас
со свистом вы выбегаете
и я ухожу из вас,
о родина, попрощаемся,
буду звезда, ветла,
не плачу, не попрошайка,
спасибо, жизнь, что была,
на стрельбищах в 10 баллов
я пробовал выбить 100,
спасибо, что ошибался,
но трижды спасибо, что
в прозрачные мои лопатки
вошла гениальность, как
в резиновую
перчатку
красный мужской кулак,
"Андрей Вознесенский" — будет,
побыть бы не словом, не бульдиком,
еще на щеке твоей душной —
"Андрюшкой",
спасибо, что в рощах осенних
ты встретилась, что-то спросила,
и пса волокла за ошейник,
а он упирался,
спасибо,
я ожил, спасибо за осень,
что ты меня мне объяснила,
хозяйка будила нас в восемь,
а в праздники сипло басила
пластинка блатного пошиба,
спасибо,
но вот ты уходишь, уходишь,
как поезд отходит, уходишь,
из пор моих полых уходишь,
мы врозь друг из друга уходим,
чем нам этот дом неугоден?
ты рядом и где-то далеко,
почти что у Владивостока,
я знаю, что мы повторимся
в друзьях и подругах, в травинках,
нас этот заменит и тот, —
природа боится пустот,
спасибо за сдутые кроны,
на смену придут миллионы,
за ваши законы — спасибо,
на женщина мчится по склонам,
как огненный лист за вагоном...
Спасите!
САГА
Ты меня на рассвете разбудишь,
проводить необутая выйдешь.
Ты меня никогда не забудешь.
Ты меня никогда не увидишь.
Заслонивши тебя от простуды,
я подумаю: "Боже всевышний!
Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу".
Эту воду в мурашках запруды,
это Адмиралтейство и Биржу
я уже никогда не забуду
и уже никогда не увижу.
Не мигают, слезятся от ветра
безнадежные карие вишни.
Возвращаться — плохая примета.
Я тебя никогда не увижу.
Даже если на землю вернемся
мы вторично, согласно Гафизу,
мы, конечно, с тобой разминемся.
Я тебя никогда не увижу.
И окажется так минимальным
наше непониманье с тобою
перед будущим непониманьем
двух живых с пустотой неживою.
И качнется бессмысленной высью
пара фраз, залетевших отсюда:
"Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу".
Елена Дымарская 01.06.2010 23:12:07 (Ответ пользователю: Анатолий Лемыш)
РУБЛЕВСКОЕ ШОССЕ
Мимо санатория
реют мотороллеры.
За рулем влюбленные —
как ангелы рублевские.
Фреской Благовещенья,
резкой белизной
за ними блещут женщины,
как крылья за спиной!
Их одежда плещет,
рвется от руля,
вонзайтесь в мои плечи,
белые крыла.
Улечу ли?
Кану ль?
Соколом ли?
Камнем?
Осень. Небеса.
Красные леса.
Анатолий Лемыш 01.06.2010 23:28:21
А.Вознесенский "Из Озы"
В час отлива, возле чайной
Я лежал в ночи печальной,
Говорил друзьям об Озе и величье бытия,
Но внезапно черный ворон
Примешался к разговорам,
Вспыхнув синими очами, он сказал:
"А на фига?!"
Я вскричал: "Мне жаль вас, птица,
Человеком вам родиться б,
Счастье высшее трудиться,
Пол планеты раскрая..."
Он сказал:"А на фига?!"
"Будешь ты - великий ментор,
Бог машин, экспериментов,
Будешь бронзой монументов,
Знаменит во все края..."
Он сказал:"А на фига?!"
"Уничтожив олигархов,
Ты настроишь агрегатов,
Демократией заменишь
Короля и холуя..."
Он скзал:"А на фига?!"
Я сказал:"А хочешь - будешь
Спать в заброшенной избушке,
Утром пальчики девичьи
Будут класть на губы вишни,
Глушь такая, что не слышно
Ни хвала и ни хула..."
Он ответил:"Всё - мура!
Раб стандарта, царь природы,
Ты свободен без свободы,
Ты летишь в автомашине,
Но машина - без руля...
Оза, роза ли, стервозы -
Как скучны метаморфозы,
В ящик рано или поздно...
Жизнь была - а на фига!!"
Как сказать ему, подонку,
Что живешь, не чтоб подохнуть,-
Чтоб губами тронуть чудо
Поцелуя и ручья!
Чудо жить - необъяснимо.
Кто не жил - что спорить с ними?!
Можно бы - да на фига!
Виолетта Баша 02.06.2010 06:26:40 (Ответ пользователю: Виолетта Баша)
В море соли и так до черта,
Морю не надо слез.
Наша вера верней расчета,
Нас вывозит "Авось".
Нас мало, нас адски мало,
А самое главное, что мы врозь,
Но из всех притонов,из всех кошмаров
Мы возвращаемся на "Авось".
Вместо флейты подымем флягу,
Чтобы смелее жилось.
Под российским небесным флагом
И девизом "Авось".
Нас мало и нас все меньше
И паруз пробит насквозь,
Но в сердцах забывчивых женщин
Не забудут "Авось"!
В море соли и так до черта,
Морю не надо слез.
Наша вера верней расчета
Нас вывозит "Авось".
От ударов на наши плечи
Гнется земная ось.
Только наш позвоночник крепче,
Не согнемся - авось.
Вместо флейты подымем флягу,
Чтобы смелее жилось.
Под Российским Андреевским флагом
И девизом "Авось".
Дина Немировская 02.06.2010 07:00:09 (Ответ пользователю: Виолетта Баша)
После книги
Черёмуха благоуханна
“Спасите черёмуху!”
АВ-1995
Черёмуха благоуханна.
Повсюду пенятся фужеры.
Не проверяйте мне дыхания,
хмельные милиционеры!
Замёрзшие, как богдыханы,
лягухи певчие стесняются.
Черёмуха благоуханна.
Белеет крестик христианства.
Сказав печалям: “Гоу хоум”,
закатим, милая, в Суханово.
Альтернативою плохому
черёмуха благоуханна.
Не знаю, как сказать по-русски...
Но у’хами или уха’ми
слыхать: ты в уханьи порубки
особенно благоуханна.
Пропахнет всё дыханьем ромовым,
когда, как нищенку из храма,
я приведу домой черёмуху.
Черёмуха благоуханна.
Весенние велогонки
Чемпионы новой веры
мчатся, галок распугав —
velo-velo — примавера! —
velo-velo-velo-love.
Повело кота налево!
В Думе полевел состав.
Многожёнство просвистело —
velo-velovelo-love.
Душа рвётся из физ. тела.
Завихренье в головах.
Трассу пробуем, набычась.
Не поймём, ни ты, ни я,
неземную необычность
головокружения.
Эй, любовники пространства!
Крутит цепи бытия,
в руль, как кот вцепившись
страстно,
жуть горизонтальная!
Где камея? Курит травку.
Позабыла свой анклав.
Не скамейка, а make-лавка.
velo-velovelo-love.
Всё велюровое лобби,
шеф, руководитель лаб.,
машут шляпами с дороги.
Сердце переходит в ноги.
velo-velovelo-love.
Руль бодается рогами,
шины пробуют настил.
Так на раме, вверх ногами
бык Европу увозил.
Запад — ложь.
Восток — химера.
Западло по части прав.
Побеждает только вера —
вера — velovelo-love.
Было всё. Сирена выла.
Разбиваемся стремглав.
Руль вонзался у грудь,
как вилы.
velo-velovelo-love
Прозевай нас, Азазелло!
В белокаменных церквах
прозвенела примавера:
velo-velo-velo-ах!
Любо сердцу на балу,
даже биться перестав:
“Я болю-болю-болю”.
velo-velovelo-love.
Классика
Бровь нахмурится над спецовкой.
Пальцы вечностью затекут.
Илья Муромец васнецовский
отдаёт пионерский салют.
Над папирусом сын поп-арта
свесил патлы, позабывав,
что автографы Клеопатра
оставляла лишь на губах.
И Димитров на Якиманке
в кулаке, насшибав рубли,
поднял кружку пива. Но панки
кружку, видимо, увели.
Гамаюн надевала джинсы.
Третья Стража уходит в рейд.
Оживают иною жизнью.
Как бы в эту жизнь penetrate?!
Это Нерль в небоскрёбе проветривается?
Стоп!..
Возмущая во мне поэта,
Из меня проступает стёб.
В карбюраторе ржут россинанты.
Не хочу быть в толпе комет!
Я хочу к Тебе, россиянка,
Без которой России нет.
Без которой не разобраться,
без которой страсть — велотрек,
без которой жемчужным блядством
обернётся Тулуз Лотрек.
Сонет-экспромт
Измучила нас музыка канистр.
Лишь в ванной обнажаем свою искренность.
Играй для Бога, лысый органист!
Сегодня много званых — мало избранных.
Как сванка, плотный спустится туман.
Пуста Россия, что светилась избами.
И пустотело выдохнет орган:
“Как много нынче званых — мало избранных”.
Но музыка пуста, словно орган.
И космополитична, как алкаш.
Нет для неё ни званых и ни избранных.
На шесть стволов нас заказав расхристанно,
Бах поднял воротник, как уркаган.
Из бранных слов мы постигаем истину.
* * *
Вдову великого поэта
берут враги —
стекает зависть по заветной,
по лунной стороне ноги.
Нет, ты ему не изменила!
На тыльной стороне зеркал
ты прошептала его имя.
Но он тебя не услыхал.
У озера
Живу невдалеке от озера.
Цвет осени ест глаза.
Как Красная книга отзывов,
отозванные леса.
Но нет в лесах муравейников.
Они ушли в города.
Заменена вертолётом
отозванная стрекоза.
Хоть мы с земли не отозваны,
но в небеса спеша,
села на столб неотёсанный
отозванная душа.
Увы
“Разговор с фининспектором о поэзии”.
Фабзайцы и Маяковский.
Разговор Дельфина со Спектором — полный абзац МКовский!
Кутузовский глаз проспекта
туман затянул восковкой.
Ах, ленточка одноглазой фальмалогичной Москвы...
Белый траур
Чёрный траур — сердцу травма.
Но, как белая рояль,
существует белый траур,
будто белая печаль.
Несерьёзностью момента
оттеняя вечный шах,
белой траурною лентой
надеваю белый шарф.
Наши карточки для паспорта
Божья — наискось! — рука
белой траурною фаскою
обвязала с уголка.
Вот зачем бледнее мела,
зля ученого ханжу —
(все в дерьме, а я весь в белом) —
белоснежно выхожу!
* * *
“И far niente — мой закон”
“Евгений Онегин”
Негу заоконную на себя наденьте.
Мы — воры в законе. Dolce far niente.
Вечности воруемой не сбежать из дома.
Между поцелуями — тайная истома.
Долгая секунда тянется неделями —
Сладкая цикута ничегонеделанья.
НТВ и в праздники выдаёт фрагменты.
Мы ж погрязли в праздности. Dolce far niente.
Мы не вылезаем из ничегонеделанья.
Вся цивилизация — крестик Твой нательный.
Позабудьте цельсии или фаренгейты.
Жизнь ценна бесцельностью. Dolce far niente.
Длится процедурный перерыв в истории.
Между поцелуями — сладкая истома.
* * *
За что нам на сердце такие рубцы?
Куда же всё денется?
И кем пожираются, как голубцы,
спелёнутые младенцы?..
Ну ладно б меня. Но за что же Тебя?
Запястье в прожилках...
Живёшь, сероглазую муку терпя.
Скажите прижизненно!
Куда же нас тащит наружу рыбак? —
боль в сердце вопьётся —
зачем содрогаемся на крючках
проклятых вопросов?
Игорь Штайн 02.06.2010 08:33:24
Не буду кривить душой. Не являюсь поклонником Вознесенского. Никогда его стихов не читал и не интересовался его творчеством, за исключением песни из Рок-оперы Юнона и Авось "ты меня на рассвете разбудишь". Которая действительно идёт особняком на фоне всех остальных песен оперы. Сейчас сложно сказать, что запало в душу песня или стих. Т.е. что больше. Но... как правильно отметили выше: уходит эпоха. Светлая память человеку.
Дина Немировская 01.06.2010 16:09:17
ПРОЩАЙТЕ, ПОЭТ...
Скорблю о моём самом родном Поэте...
Комментарии:
Дина Немировская 01.06.2010 16:11:59
Вознесенский Андрей Андреевич, поэт, прозаик. Вице-президент Русского ПЕН-клуба, академик и почетный член десяти академий мира, в их числе Российская академия образования, Американская академия литературы и искусства, Баварская академия искусств, Парижская академия братьев Гонкур, Европейская академия поэзии и другие...
Он лауреат Государственной премии СССР 1978 года за сборник "Витражных дел мастер", дважды удостаивался американских премий. На Парижском фестивале "Триумф" в 1996 году газета "Нувель Обсерватер" назвала А. Вознесенского "самым великим поэтом современности".
КРАТКАЯ ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ
Андрей Вознесенский родился 12 мая 1933 года в Москве в семье научного работника. В четырнадцать лет, будучи учеником 6-го класса, послал свои стихи Б.Пастернаку и получил от него приглашение в гости. Это событие определило жизнь Вознесенского. Дружба с великим поэтом, его личность, творчество, круг общения, которым Пастернак щедро делился с юным другом, - все это было бесценно для начинающего поэта.
В 1957 году он получил диплом Московского архитектурного института и отметил это событие стихами:
"Прощай, архитектура! Пылайте широко, коровники в амурах, сортиры в рококо!.."
Первые публикации молодого поэта в печати появляются в 1958 году. В 1960, почти одновременно, вышли два сборника его стихов и поэм: "Парабола" - в Москве и "Мозаика" - во Владимире. Они сразу привлекли к себе внимание не только истинных любителей поэзии, но и официальных критиков, ругавших поэта. Его вступление в литературу было "внезапным, стремительным, бурным" и, с позиций того времени, неслыханно дерзким.
Поездка поэта в 1961 году в США вылилась в сборник "Треугольная груша" (1962).
В 1963 году на встрече с интеллигенцией в Кремле Хрущев подвергает поэта резкой критике, и в запале кричит ему: "Забирайте ваш паспорт и убирайтесь вон, господин Вознесенский!" Однако, несмотря на временные опалы, стихи Вознесенского продолжали издаваться, и тиражи его книг достигли 200 тысяч.
В 1960-е годы Вознесенский выступает со своими стихами в Париже (1963), в Мюнхене (1967). В Нью-Йорке выступления были запрещены. Совершает поездки в Италию, Францию и др. страны. Впечатления от этих путешествий становятся строками стихов.
В 1964 выходит сборник "Антимиры", в 1966 - "Ахиллесово сердце", затем, в 1970 - "Тень звука", в 1972 - "Взгляд", в 1974 - "Выпусти птицу!", в 1975 - "Дубовый лист виолончельный", в 1976 - "Витражных дел мастер", в - 1979 "Соблазн".
В 1979 году А. Вознесенский примает участие в альманахе "Метрополь".
В 1981 году у него выходит книга "Безотчетное". В начале 80-х Вознесенский обращается к прозе, и в 1982 году публикует повесть "О", в 1984 - книгу "Прорабы духа. Прозаические и поэтические произведения", в 1987 - книгу "Ров. Стихи и проза", в 1990 - "Аксиома самоиска", в 1991 "Россiя, Poesia" и т.д...
На стихи поэта Ю. Любимов поставил в Театре на Таганке спектакль "Антимиры", Р. Гринберг в Ивановском молодежном театре поставила сценические композиции "Парабола" и "Мозаика", А. Рыбников написал рок-оперу "Юнона и Авось", а М. Захаров поставил ее в Ленкоме; Р. Щедрин - "Поэторию", А. Нилаев - ораторию "Мастера", В. Ярушин - рок-ораторию "Мастера".
А. Вознесенский экспериментирует и в области художественной формы. Он создает "видеомы", в которых стихи совмещаются с рисунками, фотографиями, шрифтовыми композициями, текст располагается в определенной форме, например в форме креста (цикл "Распятие"). По мнению автора, такая визуальная поэзия соединяет зрительное восприятие с духовным.
Дина Немировская 01.06.2010 16:14:44
ЗАПОВЕДЬ
Вечером, ночью, днем и с утра
благодарю, что не умер вчера.
Пулей противника сбита свеча.
Благодарю за священность обряда.
Враг по плечу - долгожданнее брата,
благодарю, что не умер вчера.
Благодарю, что не умер вчера
сад мой и домик со старой терраской,
был бы вчерашний, позавчерашний,
а поутру зацвела мушмула!
И никогда б в мою жизнь не вошла
ты, что зовешься греховною силой -
чисто, как будто грехи отпустила,
дом застелила - да это ж волжба!
Я б не узнал, как ты утром свежа!
Стал бы будить тебя некий мужчина.
Это же умонепостижимо!
Благодарю, что не умер вчера.
Проигрыш черен. Подбита черта.
Нужно прочесть приговор, не ворча.
Нужно, как Брумель, начать с "ни черта".
Благодарю, что не умер вчера.
Существование - будто сестра,
не совершай мы волшебных ошибок.
Жизнь - это точно любимая, ибо
благодарю, что не умер вчера.
Ибо права не вражда, а волжба.
Может быть, завтра скажут: "Пора!"
Так нацарапай с улыбкой пера:
"Благодарю, что не умер вчера".
ЗАПИСКА Е.ЯНИЦКОЙ, БЫВШЕЙ МАШИНИСТКЕ МАЯКОВСКОГО
Вам Маяковский что-то должен.
Я отдаю.
Вы извините — он не дожил.
Определяет жизнь мою
платить за Лермонтова, Лорку
по нескончаемому долгу.
Наш долг страшен и протяжен
кроваво-красным платежом.
Благодарю, отцы и прадеды.
Крутись, эпохи колесо...
Но кто же за меня заплатит,
за все расплатится, за все?
1963
Реквием (Возложите на море венки...)
Возложите на море венки.
Есть такой человечий обычай —
в память воинов, в море погибших,
возлагают на море венки.
Здесь, ныряя, нашли рыбаки
десять тысяч стоящих скелетов,
ни имен, ни причин не поведав,
запрокинувших головы к свету,
они тянутся к нам, глубоки.
Возложите на море венки.
Чуть качаются их позвонки,
кандалами прикованы к кладбищу,
безымянные страшные ландыши.
Возложите на море венки.
На одном, как ведро, сапоги,
на другом — на груди амулетка.
Вдовам их не помогут звонки.
Затопили их вместо расстрела,
души их, покидавшие тело,
на воде оставляли круги.
Возложите на море венки
под свирель, барабан и сирены.
Из жасмина, из роз, из сирени
возложите на море венки.
Возложите на землю венки.
В ней лежат молодые мужчины.
Из сирени, из роз, из жасмина
возложите живые венки.
Заплетите земные цветы
над землею сгоревшим пилотам.
С ними пили вы перед полетом.
Возложите на небо венки.
Пусть стоят они в небе, видны,
презирая закон притяженья,
говоря поколеньям пришедшим:
«Кто живой — возложите венки».
Возложите на Время венки,
в этом вечном огне мы сгорели.
Из жасмина, из белой сирени
на огонь возложите венки.
Дина Немировская 02.06.2010 07:53:50 (Ответ пользователю: Виолетта Баша)
МОНОЛОГ МЕРЛИН МОНРО
Я Мерлин, Мерлин.
Я героиня
самоубийства и героина.
Кому горят мои георгины?
С кем телефоны заговорили?
Кто в костюмерной скрипит лосиной?
Невыносимо,
невыносимо, что не влюбиться,
невыносимо без рощ осиновых,
невыносимо самоубийство,
но жить гораздо
невыносимей!
Продажи. Рожи. Шеф ржет, как мерин
(Я помню Мерлин.
Ее глядели автомобили.
На стометровом киноэкране
в библейском небе,
меж звезд обильных,
над степью с крохотными рекламами
дышала Мерлин,
ее любили...
Изнемогают, хотят машины.
Невыносимо),
невыносимо
лицом в сиденьях, пропахших псиной!
Невыносимо,
когда насильно,
а добровольно — невыносимей!
Невыносимо прожить, не думая,
невыносимее — углубиться.
Где наша вера? Нас будто сдунули,
существованье — самоубийство,
самоубийство — бороться с дрянью,
самоубийство — мириться с ними,
невыносимо, когда бездарен,
когда талантлив — невыносимей,
мы убиваем себя карьерой,
деньгами, девками загорелыми,
ведь нам, актерам,
жить не с потомками,
а режиссеры — одни подонки,
мы наших милых в объятьях душим,
но отпечатываются подушки
на юных лицах, как след от шины,
невыносимо,
ах, мамы, мамы, зачем рождают?
Ведь знала мама — меня раздавят,
о, кинозвездное оледененье,
нам невозможно уединенье,
в метро,
в троллейбусе,
в магазине
"Приветик, вот вы!"— глядят разини,
невыносимо, когда раздеты
во всех афишах, во всех газетах,
забыв,
что сердце есть посередке,
в тебя завертывают селедки,
лицо измято,
глаза разорваны
(как страшно вспомнить во "Франс-Обзёрвере"
свой снимок с мордой
самоуверенной
на обороте у мертвой Мерлин!).
Орет продюсер, пирог уписывая:
"Вы просто дуся,
ваш лоб — как бисерный!"
А вам известно, чем пахнет бисер?!
Самоубийством!
Самоубийцы — мотоциклисты,
самоубийцы спешат упиться,
от вспышек блицев бледны министры —
самоубийцы,
самоубийцы,
идет всемирная Хиросима,
невыносимо,
невыносимо все ждать,
чтоб грянуло,
а главное —
необъяснимо невыносимо,
ну, просто руки разят бензином!
невыносимо
горят на синем
твои прощальные апельсины...
Я баба слабая. Я разве слажу?
Уж лучше — сразу!
1963
Анатолий Лемыш 01.06.2010 23:09:17
Андрей Вознесенский
Люблю Лорку
Люблю Лорку. Люблю его имя — легкое, летящее как лодка, как галерка — гудящее, чуткое как лунная фольга радиолокатора, пахнущее горько и пронзительно как кожура апельсина...
Лорка!..
Он был бродягой, актером, фантазером и живопсицем. Де Фалла говорид, что дар музыканта в нем — не менее поэтического.
Я никогда не видел Лорки. Я опоздал родиться. Я встречаюсь с ним ежедневно.
Когда я вижу две начищенные до блеска луны — одну в реке, а другую на небе, мне хочется крикнуть, как лорковскому мальчугану: "Полночь, ударь в тарелки!" Когда мне говорят "Кордова", я уже знаю ее — эти две туманные Кордовы, "Кордову архитектуры и Кордову кувшинок", перемешанные в вечерней воде. Я знаю его сердце, ранимое, прозрачное, "как шелк, колышимое от луча сета и легкого звучания колокольчика". И не знаю вещи, равной по психологической точности его "Неверной жене". Какая чистота, жемчужность чувства! Люблю слушать, как в его балладах Цыгане и серафимы
Играют на аккордеонах...
Его убили франкисты 18 августа 1936 года.
Преступники пытаются объяснить это случайностью. Ах, эти "ошибки"! ...Пушкин — недоразумение? Лермонтов — случайность?!
* * *
Поэзия — всегда революция. Революцией были для ханжества неоинквизиторских тюрем песни Лорки, который весь — внутренняя свобода, раскованность, темперамент. Тюльпан на фоне бетонного каземата кажется крамолой, восстанием.
Маркс писал, что поэты нуждаются в большой ласке. О какой лоске может идти речь, когда обнаженное средце поэта обдирается о колючую проволоку? Когда я думаю о трагическом, гибельном пути поэта, я вспоминаю Элюара, отравленного газом во время первой мировой войны. Фигура задыхающегося поэта символична. Как тут петь, когда дышать нечем!
Хрипло, гневно звучал голос Лорки: Это не ад, это улица.
Это не смерть, это фруктовая лавка.
Я вижу необозримые миры
в сломанной лапе котенка,
раздавленного вашим боестящим авто.
* * *
Буен, метафоричен был Лорка! Как мерный звон
колоколов
Шаги тяжелые волов...
С рожденья их душа
дряхла,
Полна презрения к ярмам,
И вспоминают два крыла,
Что прежде били
по бокам.
Метафора — мотор формы. ХХ век — век превращений, метаморфоз. Что такое сегодняшняя сосна? Перлон? Плексиглас ракеты? Мой мохнатый силоновый джемпер по ночам бредит пихтами. Ему снится хвойное шуршание его мохнатых предков.
Лорка — это ассоциации. В его стихах ночное небо "сияет, как круп кобылицы черной". Ветер срезает голову, высунувшуюся из окна, как нож гильотины.
Предметы роднятся, аукаются. Это — как у Пикассо. Хотя бы в его рисунках к Элюару, например. Абрис женского лика переходит в овал голубки. Брови расцветают пальмовой ветвью. А это что? Волосы? Иди голубиные крылья?
Мне пришлось видеть и живопись Лорки. В ней, как и в его балладах, сквозит цыгано-испанская грация и изысканность.
В поэзии его живопись бьет через край. Лорка любит локальный цвет. Как пронзителен его зеленый в "Сомнамбулическом романсе". Люблю тебя в зелень
одетой.
И ветер зелен. И листья.
Корабль на зеленом море.
И конь на горе лесистой.
И зелены волосы, тело,
Глаза серебра
прохладней...
О дайте, дайте подняться
К зеленой лунной ограде!
Как тонко и точно написан лунный свет зеленым, ну "изумрудкой", скажем!
А в "Убийстве Антоньито эль Камборьо" доминирует красный. Тяжелым золотом налиты "Четыре желтые баллады". Но наиболее страшна и сильна гамма лорковского черного в "Романсе об испанской жандармерии". Черные кони жандармов
железом подкованы
черным.
На черных плащах сияют
чернильные пятна воска.
"Черный, черный", — навязчиво повторяет поэт. "Черный!" В глазах черно от этих жандармов. Цвет становится символом. Жандармерия черная
скачет,
усеяв свой путь кострами,
на которых поэзия
гибнет,
стройная и нагая.
Роза из рода Камборьо
стонет, упав у порога,
отрезанные груди
пред ней лежат на
подносе.
Другие девушки мчатся,
и плещут их черные косы
в воздухе, где
расцветают
выстрелы — черные розы.
* * *
Поэзия — прежде всего чудо, чудо чувства, чудо звука и чудо того "чуть-чуть", без которого искусство немыслимо. Оно необъяснимо. Люди, лишенные этого внутреннего музыкального слуха, не понимали Лорки. О, эти унылые уши окололитературных евнухов... В стихах есть та особенность, что они, как увеличительное стекло, усиливают чувства слушателей. Ели нечего усиливать, поэзия бессильна!
Как прозой объяснить колдовство этих строк: Пускай узнают сеньоры
о том, что я умер, мама,
пусть с Юга летят на
Север
синие телеграммы!
Тоскую по Лорке.
Тоскую по музыке его, пропахшей лимоном и чуть горчащей.
* * *
И еще об одной встрече с Лоркой мне хочется рассказать.
В Чикаго полтора миллионов поляков.
Случилось, что я читал там свою "Сирень" — балладу о неприкаянной, влюбленной, оставившей родину, отправившейся путешествовать сирени.
Комнату освещает лунный экран телевизора. Звук выключен. Он вместо лампы, этот лиловатый экран с немыми плавающими тенями.
Свет озаряет женскую фигурку на тахте. Она — полька. Она сидит, поджав ноги. Ее родители эмигрировали перед войной в Аргентину. Она тревожна и смятена. Освещенная со спины лиловым сиянием, она кажется сама сиренью с поникшими трепетными плечами, лиловыми локонами, серыми туманными зрачками, сама кажется сиренью — потерянной, мерцающей.
Я, сам того не понимая, читаю и про нее, про ее судьбу.
Чем живет она? Что творится у нее на душе? Где соломинка, за которую она хватается в этой пустоте, в этом чуждом мире?
Вместо ответа она закидывает голову. Она читает, вернее, не читает, а полупоет какие-то стихи. Она преображается. Голосок ее прозрачен — он утренний и радостный какой-то.
"Это — Лорка", — отвечает она на мой недоуменный взгляд.
"Ларк?" — переспрашиваю я, не разобрав. ("Ларк" — жаворонок по-английски.)
"Да, да! Ларк! — хохочет она. — Это моя единственная радость. Не знаю, как бы я была без него... Ларк... Лорка..."
...Его убили 18 августа 1936 года.
* * *
Уроки Лорки — не только в его песнях и жизни. Гибель его — тоже урок. Убийство искусства продолжается. Только ли в Испании? Когда я пишу эти заметки, может быть, тюремщики выводят на прогулку Сикейроса.
Двадцать пять лет назад они убили Лорку.
Дина Немировская 03.06.2010 22:45:37
ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ БАЛЛАДА
Судьба, как ракета, летит по параболе
Обычно — во мраке и реже — по радуге.
Жил огненно-рыжий художник Гоген,
Богема, а в прошлом — торговый агент.
Чтоб в Лувр королевский попасть
из Монмартра,
Он
дал
кругаля через Яву с Суматрой!
Унесся, забыв сумасшествие денег,
Кудахтанье жен, духоту академий.
Он преодолел
тяготенье земное.
Жрецы гоготали за кружкой пивною:
«Прямая — короче, парабола — круче,
Не лучше ль скопировать райские кущи?»
А он уносился ракетой ревущей
Сквозь ветер, срывающий фалды и уши.
И в Лувр он попал не сквозь главный порог —
Параболой
гневно
пробив потолок!
Идут к своим правдам, по-разному храбро,
Червяк — через щель, человек — по параболе.
Жила-была девочка рядом в квартале.
Мы с нею учились, зачеты сдавали.
Куда ж я уехал!
И черт меня нес
Меж грузных тбилисских двусмысленных звезд!
Прости мне дурацкую эту параболу.
Простывшие плечики в черном парадном...
О, как ты звенела во мраке Вселенной
Упруго и прямо — как прутик антенны!
А я все лечу,
приземляясь по ним —
Земным и озябшим твоим позывным.
Как трудно дается нам эта парабола!..
Сметая каноны, прогнозы, параграфы,
Несутся искусство, любовь и история —
По параболической траектории!
В Сибирь уезжает он нынешней ночью.
А может быть, все же прямая — короче?
1959
Дина Немировская 03.06.2010 23:30:22
ПОЖАР В АРХИТЕКТУРНОМ ИНСТИТУТЕ
Пожар в Архитектурном!
По залам, чертежам,
амнистией по тюрьмам -
пожар, пожар!
По сонному фасаду
бесстыже, озорно,
гориллой краснозадой
взвивается окно!
А мы уже дипломники,
нам защищать пора.
Трещат в шкафу под пломбами
мои выговора!
Ватман - как подраненный,
красный листопад.
Горят мои подрамники,
города горят.
Бутылью керосиновой
взвилось пять лет и зим...
Кариночка Красильникова,
ой! горим!
Прощай, архитектура!
Пылайте широко,
коровники в амурах,
райклубы в рококо!
О юность, феникс, дурочка,
весь в пламени диплом!
Ты машешь красной юбочкой
и дразнишь язычком.
Прощай, пора окраин!
Жизнь - смена пепелищ.
Мы все перегораем.
Живешь - горишь.
А завтра, в палец чиркнувши,
вонзится злей пчелы
иголочка от циркуля
из горсточки золы...
...Все выгорело начисто.
Милиции полно.
Все - кончено!
Все - начато!
Айда в кино!
1957
Дина Немировская 03.06.2010 23:35:28
ЗАМЕРЛИ
Заведи мне ладони за плечи,
обойми,
только губы дыхнут об мои,
только море за спинами плещет.
Наши спины, как лунные раковины,
что замкнулись за нами сейчас.
Мы заслушаемся, прислонясь.
Мы - как формула жизни двоякая.
На ветру мировых клоунад
заслоняем своими плечами
возникающее меж нами -
как ладонями пламя хранят.
Если правда, душа в каждой клеточке,
свои форточки отвори.
В моих порах стрижами заплещутся
души пойманные твои!
Все становится тайное явным.
Неужели под свистопад,
разомкнувши объятья, завянем -
как раковины не гудят?
А пока нажимай, заваруха,
на скорлупы упругие спин!
Это нас погружает друг в друга.
Спим.
1965
Дина Немировская 03.06.2010 23:37:47
В дни неслыханно болевые
быть без сердца - мечта.
Чемпионы лупили навылет -
ни черта!
Продырявленный, точно решёта,
утешаю ажиотаж:
"Поглазейте в меня, как в решетку,-
так шикарен пейзаж!"
Но неужто узнает ружье,
где,
привязано нитью болезненной,
бьешься ты в миллиметре от лезвия,
ахиллесово
сердце
мое!?
Осторожнее, милая, тише...
Нашумело меняя места,
Я ношусь по России -
как птица
отвлекает огонь от гнезда.
Все болишь? Ночами пошаливаешь?
Ну и плюс!
Не касайтесь рукою шершавою -
я от судороги - валюсь.
Невозможно расправиться с нами.
Невозможнее - выносить.
Но еще невозможней -
вдруг снайпер
срежет
нить!
1965
Дина Немировская 03.06.2010 23:59:33
Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ // Не буду каяться!
Елена СКУЛЬСКАЯ
Его строчками здоровались и прощались. Объяснялись в любви. Он объехал вслед за своими стихами весь мир, и весь мир его принял и перевел. Ему было четырнадцать лет, когда его благословил на поэтическую судьбу Борис Пастернак. Сейчас он разменял восьмой десяток и пишет новые стихи.
Между жизнью и искусством
- Андрей Андреевич, Пастернак увидел в Вас не литературные способности, но Поэта; значит, к четырнадцати годам Вы уже написали что-то важное и определяющее. Что?
- Самое первое стихотворение я написал про Бородино - ревнивое подражание Лермонтову. А потом всю жизнь писал только о любви.
Во время войны, в эвакуации, у меня была собака Джульба, я выменял ее на самое заветное мое сокровище - лупу. Мальчишки мучили собачонку, изображая гестаповцев; она была у них партизанкой, и они собирались вздернуть ее на дереве.
Мое увеличительное стекло спасло Джульбу, и я понял, что на свете есть еще кто-то более беззащитный, чем я сам - голодный второклассник, ворующий подсолнухи и жующий жмых. Я думал, что мы никогда не расстанемся с Джульбой, но родители, обещав взять собаку с нами в Москву, потом сдались хозяйственнику по фамилии Баренбург, запретившему сажать псину в вагон. Меня обманули: Джульба осталась на перроне. Так кончилась моя первая любовь. Так я увидел первое предательство. Я писал:
Джульба, помнишь, когда в отчаянье,
Проклиная Баренбурга что есть силы,
Клялся тебе хозяин
Не забыть тебя до могилы?
- Почему Вы решили показать свои стихи именно Пастернаку?
- Впервые я прочел его стихи в "Правде", они поразили меня. Потом мой друг достал мне сборник Пастернака. Я помню дождь, ливень за окном. И всю эту ночь я читал стихи и понял, что должен написать ему. Взял тетрадку в линеечку и вывел что-то вроде того: "Милый Борис Леонидович! Я очень уважаю Ваше творчество..." - и прочую какую-то глупость.
- И очень скоро получили ответ...
- Он позвонил мне по телефону. И фраза обомлевших родителей: "Тебя Пастернак к телефону!", стала поворотной в моей судьбе. Я встретился с гением. Стал часто бывать у него. Читал стихи во время застолий в очередь с ним самим. Однажды оказался за столом рядом с Анной Андреевной Ахматовой. За столом вскипал громоподобный Борис Ливанов, мелькнул неподражаемый Вертинский, упоительно артистичный Ираклий Андроников, сухим сиянием ума высвечивался Генрих Нейгауз...
- Вы стали друзьями?
- Пастернак - вечный подросток, поэтому мне очень быстро стало легко с ним. Однажды Пастернак взял меня с собой на премьеру "Ромео и Джульетты" в его переводе. Ромео играл Юрий Любимов (тогда - герой-любовник, не помышлявший еще о своем театре), и мне, конечно, не могло тогда прийти в голову, что в этом будущем театре на Таганке поставят спектакль по моим стихам.
Но вдруг у Ромео сломалась шпага, и обломок, описав баснословную параболу, упал на ручку, соединявшую наши с Пастернаком кресла. Судьба постоянно шлет нам вести, нужно только уметь их слышать.
- Почему же Вы решили поступить в Архитектурный, наверняка зная о своем поэтическом призвании?
- Я всегда понимал, что нужно освоить профессию, отдельную от поэтического творчества. Творчество приходит с небес, диктуется небесами и от земного не зависит. Но земной профессией овладеть нужно. Я не жалею о времени, потраченном на чертежи, архитектурные проекты, сопромат - все эти знания, этот рисунок жизни необходимы мужчине.
- Есть ли разница, зазор между Вами и Вашим лирическим героем?
- Нет никакой разницы. Андрей Вознесенский и есть лирический герой Андрея Вознесенского.
- Вы не разделяете жизнь и искусство?
- Нет, конечно. Включаешь себя, как в розетку штепсель, и начинается сумасшествие. Пишешь слова, не всегда даже понимая смысл написанного. Тебе диктуют, и все тут. Кто знает: может, сверху, а может, снизу.
- Если Вы - всегда Вы, то как же писали "Я Мерлин, Мерлин/ Я героиня/ самоубийства и героина"?
- Я же не мог написать о себе: "невыносимо, когда раздеты/ во всех афишах, во всех газетах,/ забыв,/ что сердце есть посередке,/ в тебя завертывают селедки..." Чтобы это сказать, мне нужно было влезть в чью-то кожу. А тут так трагически совпало: когда Мерилин Монро покончила с собой, то сообщение о ее смерти в одной из французских газет было на соседней с моими стихами странице и мои стихи просвечивали сквозь ее лицо. Но никто не заблуждался: все понимали, что невыносимо жить нам с вами, а не кому-то другому, в какой-то другой стране.
От "Антимиров" до "Юноны и Авось"
- Мгновенно прославились не только Ваши стихи, но и Ваша манера их читать. Не случайно молодой театр на Таганке обратился именно к Вам, чтобы создать первый поэтический спектакль.
- Театр в шестидесятые годы прошлого века, как и вся страна, возвращался к стихам. Любимов так был одержим поэтическим театром, что даже предлагал мне играть Гамлета. Вначале я сам участвовал в спектакле "Антимиры", ну а потом уже актеры читали в моей манере.
- Мне рассказывал Валерий Золотухин, что Вы порой приезжали на Таганку прямо из аэропорта, возвратясь из Парижа или, например, Нью-Йорка с ворохом впечатлений. И новые стихи и Ваши рассказы для многих артистов были окном в огромный мир - они учили и воспитывали.
- Ну, случалось, я привозил вещи и сугубо материальные. Боре Хмельницкому привез из Америки ремень с крупной пряжкой для джинсов. Но главное, конечно, было в стихах: были в них заграничные приметы или нет - не важно; мои стихи по форме точно соответствовали духу Таганки, было такое совпадение, которое сказалось потом и на стихах Высоцкого. В них есть мое влияние.
- В кабинете Любимова до сих пор на стене Ваши слова: "Все богини - как поганки перед бабами с Таганки!"
- Это на самой заре театра тогдашний министр культуры Фурцева велела мне написать экспромт, а увидев, что я написал поперек стены, так возмутилась, что хлопнула дверью. Напуганные таганковцы даже пытались смыть надпись, но она устояла.
- Спектакль "Антимиры" по Вашим стихам прошел более девятисот раз, что просто немыслимо для поэтического произведения!
- Григорий Поженян как-то сказал мне, что после моих стихов ему хочется писать самому. То есть в них был какой-то витамин, побуждающий к творчеству.
- Не менее памятен и второй Ваш спектакль, "Юнона и Авось" на сцене Ленкома, - фирменный знак театра Марка Захарова.
- "Юнону и Авось" я принес сначала на Таганку, но не нашел там отклика. И к лучшему. Музыка Рыбникова, постановка Захарова, мое сочинение - все совпало идеально. Такое бывает один раз в жизни.
- Как поменялась публика за те сорок с лишним лет, что Вы встречаетесь с нею или встречаются с нею Ваши стихи и спектакли?
- На "Антимирах" публика была протестующая и в стихах искала протеста и перемен. А теперь на "Юноне и Авось" сидят плачущие девочки, тоскующие о любви.
- А тоскуете ли Вы по той славе, которая собирала на Ваши выступления многотысячные стадионы в шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые?
- Нет, мне важнее то, что происходит сейчас. Я стал писать серьезнее, глубже. Стадионы влияли на меня, я им поддавался, был их выразителем. Я вел жизнь поп-звезды, такие у меня и были поклонники. Сейчас я пишу только для себя, хотя все равно мои стихи печатает "Московский комсомолец", выходящий миллионным тиражом.
- Так все-таки Вы изменились или нет?
- Изменился. Перестал хамить, вести себя непозволительно. Говорю об этом, с грустью думая о недавней смерти замечательной французской писательницы Франсуазы Саган. Мы с ней встречались в середине шестидесятых в Париже. Я был наглым, юным: Франсуаза привела меня в какой-то ночной кабак, там я обратил внимание на случайную девицу и ушел с нею, бросив Саган. Мне тогда хотелось всего сразу, и я не понимал, до какой степени оскорбил Франсуазу. Потом она рассказывала об этом случае Евтушенко, так и не простив моего хамства. Жаль, что все было именно так.
А судьи кто? Женщины!
- Вы дорожите чьим-то мнением?
- Мнением женщин.
- Тех женщин, что отвечали Вам на стихи любовью?
- Конечно.
- Что Вас заставляло идти на компромиссы или, напротив, быть безоглядно смелым?
- Судьба всегда вела меня за руку. Был момент, когда в Кремле мне кричали: "Вон из страны!" Хрущев орал мне: "Ишь ты какие, думают, что Сталин умер... Вы - рабы! Не хотите с нами в ногу идти, получайте паспорт и уходите. В тюрьму мы вас сажать не будем, но если вам нравится Запад - граница открыта". Я ответил: "Я русский поэт. Зачем мне уезжать?"
Не буду сейчас вдаваться в подробности специфического отношения Никиты Сергеевича к искусству, но после его топанья на меня в Кремле состоялось собрание в большом зале Центрального дома литераторов. От меня требовалось публичное покаяние, но судьба подсказала мне быть стойким. Я вышел и сказал, что не буду каяться.
- А что конкретно было поводом для хрущевского гнева?
- Я сказал в одном интервью, что делю литературу не по горизонтали, на поколения, а по вертикали и выстроил такую лестницу: Пушкин, Лермонтов, Маяковский, Пастернак, Ахмадулина. Пастернак, которого вынудили отказаться от Нобелевской премии, был для Хрущева как красная тряпка для быка.
- Вы были лично знакомы практически со всеми знаменитостями планеты. Кто из них произвел на Вас самое сильное впечатление?
- Немецкий философ-экзистенциалист Хайдеггер и американский поэт Ален Гинзберг, идеолог битников. Чем-то я сам в свое время был похож на битника.
Вот еще судьба: Ален Гинзберг, побывав у меня в гостях, уходя, оставил в номере на рояле таблетку ЛСД. Я просидел с этой таблеткой несколько часов, раздумывая, принять или нет. Сожрал все-таки. И моментально отключился. Потом пришли какие-то люди, надели на меня брюки, свитер, вывели на улицу. Я шел, безвольно поглощая окружающее. Свалился.
И тогда я стал читать стихи. Сначала медленно, по складам. Начал с "Гойи": "Я - Гойя!/ Глазницы воронок мне выклевал ворог..." И пришел в себя. Потом психоаналитик говорил мне, что своими стихами я победил дьявольский инстинкт.
- Андрей Андреевич, Вы верили в социализм?
- Я никогда не был фанатиком, но всегда считал и сейчас считаю, что социализм - довольно хорошая штука. Теоретически. Практически же мы видим, что и капитализм - вещь довольно страшная. А что до веры, то я верил в себя.
- А в Бога?
- Конечно, я верующий человек. Бог диктует мне стихи. Высшие силы ведут меня по жизни. Были, были у меня сомнения, не дьявол ли подделывается под эти ритмы, но я научился отличать темное от светлого.
- Вы в молодости писали: " - Мама, кто там вверху голенастенький -/ руки в стороны и - парит/ - Знать, инструктор лечебной гимнастики,/ Мир не может за ним повторить"... Ваша вера совместима с такой ироничностью?
- Совместима. Ирония не обижает веру. А мир действительно не может за ним повторить.
- У Вас очень много стихов - мгновенных откликов на политические события. Вы всегда уверены в своей прозорливости и точности оценок?
- Повторяю: стихи диктуются мне свыше, и если мое мнение не совпадает с мнением мира, то прав я.
- Значит, у Вас нет ни одного случайного стихотворения, нет стихов, от которых Вы отрекаетесь?
- Почти нет. Нет. Может быть, хотелось изменить отдельные строчки, слова.
- А скажем, поэму "Лонжюмо" о Ленине?
- Это очень внутренняя для меня вещь, как это ни покажется Вам странным. Там ничего карьерного не было. Там был очищающий ритм, который нес меня. И потом было очень важно: все, что говорилось о Ленине, перечеркивало Сталина. И опять повторю про ритм: у Маяковского тоже было много стихов с дозволенной атрибутикой, но ритм делал их подрывными.
Стихи, стихи, стихи
- Ваша жизнь, если выделить в ней самое главное, укладывается в одно слово - "стихи". И они Вас никогда не подводили. Но к кризисам и отчаянию порой толкает не главное, а второстепенное. Бывало?
- Мои близкие знают, что я никогда не жалуюсь (только листу бумаги), не плачусь друзьям и подругам, не делюсь неприятностями на бабский манер. Но один раз, сознаюсь, я задумал самоубийство. Не печатали мою поэму "Оза". Я считал ее самой моей серьезной вещью, считал, что там созданы не только совершенно новые стихи, но и новая, небывалая проза. Шок любви и поэмы опустошил меня: мне казалось, что больше я ничего уже не сделаю. Пора кончать. Написал два предсмертных письма. Одно адресовалось генсеку КПСС. Я писал, что больше не буду мешать строительству социализма, что добровольно ухожу, но прошу опубликовать мое последнее произведение. Второе письмо обращалось к незнакомому мне президенту Кеннеди. Смысл был тот же.
- И тут на выручку пришла судьба?
- Конечно. Я думал над способом ухода из жизни. Разбухший утопленник не привлекал меня. Хрип в петле и сопутствующие отправления организма тоже. Меня устраивала только дырка в черепе. Но пистолет в Москве мне тогда достать не удалось. Советовали слетать за ним в Тбилиси. Я стал собирать деньги на поездку. И тут вдруг одному журналу понадобилась сенсация, и мою поэму взяли!
- С каким чувством Вы вспоминаете эту историю?
- Я был тогда кретином, готовым отказаться от чуда дальнейшей жизни. И с каким смехом и недоумением прочли бы мои письма высокие адресаты. Наш бы генсек утвердился в мысли, что я обыкновенный шиз и галиматью мою печатать не надо. Американцы бы просто пожали плечами: страдания виртуального Вертера. Хочу пожелать молодым литераторам: когда вы в полном крахе и враги вас достали и кругом невезуха - есть одно верное средство поправить дела: небрежной походкой забредайте в Центральный дом литераторов, садитесь за столик и пейте шампанское с красивой девушкой на глазах давно схоронивших вас врагов. Пусть сдохнут.
- В сегодняшнем поэтическом мире победитель - поэт-песенник. Несколько раз в жизни Вы примеривали на себя этот облик. Понравилось или нет?
- Микаэл Таривердиев любил мне повторять: "Надо писать песни. Нельзя быть целкой в бардаке". Я пал. Как-то на пари я написал для Раймонда Паулса песенку "Барабан". Утром проснулся под внятный шорох за окном. То был шорох не листьев, но денежных купюр. Во всех ресторанах страны играли "Барабан". Естественно, коллеги не смогли простить мне этого успеха: на нас с Паулсом написали донос - будто в песне замаскирована мелодия... гимна Израиля. Песню на время запретили. Тогда мы с Паулсом сделали "Миллион алых роз" и отдали песню победоносной Алле Пугачевой. После этого я перестал писать песни. Как в спорте: попробовал, достиг результата - и бросил.
- Андрей Андреевич, Вы были знакомы с Иосифом Бродским?
- Не близко. Но много лет дружил с его друзьями - Людой Штерн, Геной Шмаковым. И однажды был приглашен к Бродскому в его квартиру в Гринвич-Виллидже. В хозяине не было ничего от его знаменитой заносчивости. Он был открыт, радушно гостеприимен, не без ироничной корректности.
- О чем могли говорить два поэта столь разных судеб и путей?
- О котах. У Бродского был любимый кот Миссисипи. "Я считаю, что в кошачьем имени должен быть звук "с"", - пояснил Иосиф. "А почему не СССР?" - поинтересовался я. "Буква "р-р-р" мешает", - засмеялся в ответ Бродский.
Я сказал, что мою кошку зовут Кус-Кус. Бродский очень обрадовался этому имени: "О, это поразительно. Поистине в кошке есть что-то арабское. Ночь. Полумесяц. Египет. Мистика".
- Так и была исчерпана встреча двух литературных действительностей?
- Успокойтесь. Говорили и о Мандельштаме, и о том, что Ахматова любила веселое словцо. Об иронии и идеале. О гибели империи. "Империю жалко", - усмехнулся Бродский.
- Вы жалеете о чем-нибудь несовершённом?
- Я раньше жалел о том, что не сидел в лагере, но потом это прошло. Было время, когда казалось, что все порядочные люди сидят, что диссиденты - герои и жить нужно так, как они.
- Но Вы в это время летали, например, в Ташкент, чтобы помочь тем, кто пострадал от землетрясения...
- Мы жили так: поэт должен быть там, где плохо. Когда началось ташкентское землетрясение, я был в Крымской обсерватории. Услышав радио, я купил белую рубаху и полетел в Ташкент. Сейчас это смешно: ну чем я мог помочь? Я не Орфей, чтобы заговаривать стихию. Но мне это было необходимо. Город жил в палатках на улицах. В домах было опасно - может завалить. Улицы, конечно, могли провалиться, но риск меньше. Никто не спал. Пили легкое вино. Обнимались. Несмотря на ужас, было счастливое ощущение общности, единения.
- К каким людям Вы стремились? Умным или талантливым?
- Талантливым.
- Что было самым главным в Булате Окуджаве?
- Он был очень прост в жизни, скромен, никогда не носил ярких одежд. Был истинным властителем чувств в нашей жизни. Несмотря на все уверения и себя, и других в атеистическом мировоззрении, он как поэт всегда исповедовал христианские заповеди. Белла Ахмадулина говорит, что он был очень чувствителен к наскокам прессы; все его сердце было в шрамиках от уколов - внешне безразличный, он был крайне раним.
- А Высоцкий?
- В жизни он был тих, добр к друзьям, деликатен, подчеркнуто незаметен в толпе. Когда я был под запретом, меня не печатали, я бедствовал, Володя предлагал устроить для меня чтения по частным квартирам - такими вечерами подкармливались многие. Ему хотелось печататься, вступить в Союз писателей. По его просьбе я отнес его рукопись в издательство. Но там встали стеной: и Вознесенский, мол, нам не подходит, и хрипун этот нам не нужен... Я думаю, что его сгубили не водка, не наркота, не душевный разлад, а отсутствие аудитории под стать его дарованию. Вот мог бы он петь в Лужниках, может быть, все вышло бы по-иному...
- А Евтушенко?
- Тысячи знакомых и незнакомых называют его "Женя". Его молниеносный галстук мелькает одновременно в десятке редакций, клубов, вернисажей. Он поистине чувствует себя заводом, вырабатывающим счастье. Если сложить тиражи всех его публикаций, то ими можно будет накрыть всю площадь Маяковского.
Я всегда как мог старался помогать ему. Мы были братьями по аудитории. Но... однажды Илью Эренбурга спросили о Евтушенко и обо мне. Тот ответил притчей. Смысл ее таков. Однажды разбойники поймали двух путников, сначала одного, потом другого; привязали их к общему дереву одной веревкой. И вот общее у путников - только эта веревка, только это дерево. Так и Евтушенко с Вознесенским.
- Вы разошлись?
- Мое отношение к нему осталось неизменным. Ни я, ни мои друзья никогда не опускаются до перебранки с коллегой, особенно до перебранки через прессу: будто мы совковые жены, пришедшие пожаловаться на мужей в партком. Дай Бог ему гармонии, и чтобы он написал что-нибудь достойное его имени и таланта. Я ведь до сих пор никак не могу поверить в очевидное: Евтушенко поливал в прессе грязью своих товарищей - Васю Аксенова, Беллу Ахмадулину, меня. Жаль, что он разучился, прилетая из Америки, набирать наши телефонные номера и говорить напрямую.
- Пастернаку домой однажды позвонил Сталин, чтобы поговорить о Мандельштаме. А Вам однажды позвонил Рейган и пригласил в гости. Как это было?
- Это было в период резкого обострения отношений между странами. Только что Рейган назвал Советский Союз Империей зла. Я был в Америке, мой паспорт был на продлении в советском посольстве. Я понимал, что после такой встречи у меня могут быть большие неприятности, и поставил условие. Я сказал: приеду, но чтобы не было прессы и телевидения. Рейган с удивлением согласился.
- Как же Вы вошли в Белый дом без паспорта?
- Пришел секретарь, опознал меня и сказал: "Вы, наверное, первый человек, прошедший в Белый дом без документов". И провел в знаменитый Овальный кабинет.
- О чем Вас спрашивал Рейган?
- Первый его вопрос: где Вы шили свой пиджак, он очень элегантный. Мне бы с гордостью ответить, что в "Москвошвее", но я признался, что пиджак у меня от Валентино. Рейган сообщил, что у него тоже есть пиджак от Валентино, в клетку, но поярче. Я указал президенту Америки на то, что "поярче" уже не носят.
Настало время и мне задавать вопросы. Я спросил, кто повлиял на него из русских классиков - Толстой, Достоевский или Чехов?
Президент ответил невнятно: "В молодости я много читал классиков..." Через год чета Рейганов прибыла в Москву: отношения между странами потеплели. В своих речах американский президент цитировал стихи Пастернака из "Доктора Живаго", чем совершенно покорил нашу интеллигенцию. На прощальном обеде в Москве я оказался за одним столиком с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Перед нами лежала распечатка речи-тоста Рейгана. Я обратил внимание Горбачева на то, что Рейган намерен прочесть две строфы из Пастернака. Горбачев без секундной даже заминки немедленно процитировал следующие две строфы. Тут я понял, что времена меняются!
- А за самовольную встречу Вам все-таки досталось или нет?
- Прощаясь и узнав, что я сейчас собираюсь в советское посольство за паспортом, Рейган предложил мне съездить на его лимузине. И вот, представьте, перед обалдевшим посольством останавливается президентский лимузин и из него выхожу я. "Какими судьбами?" - спрашивает посол. "Да так, - отвечаю, - был сейчас у президента, теперь вот к вам заскочил за паспортом". Посол покачал головой: "Ну и непредсказуемые вы, поэты..." Так история и закончилась без каких-либо неприятных последствий.
- Тогда желаю Вам еще долго слышать вслед: "Ну и непредсказуемые же вы, поэты..."
Из интервью Дмитрия Быкова:
С Вознесенским я в последнее время разговаривал несколько раз – в больнице, на панихиде по Аксенову, на вечерах, куда он приходил… Разговоры длились минут по пятнадцать, не больше, потому что боюсь его утомлять. Но странное дело – на людях он чувствует себя лучше. Это и давняя эстрадная выучка, и внутренний кодекс чести: никто не должен видеть, каково тебе на самом деле.
Он один из крупнейших поэтов ХХ века, и этого статуса не станут сегодня оспаривать даже заядлые его ругатели. Он давно в том статусе, когда любое высказывание предваряется оговоркой: «Вознесенский, конечно, большой поэт, но…» А по-моему, и без всяких но. Вознесенский до сих пор интересен: то, что он умудряется писать, героически сражаясь с болезнью, – поражает свежестью, темпераментом и хваткой. Но, помимо всякой эстетики, поражает мужество, с которым он встречает испытания последних лет: он, вечно упрекаемый то в легковесности, то в истеричности, то в самолюбовании. Я не знаю в последнее время более убедительного примера героизма – по крайней мере в литературе.
«Люди же смотрят»
– Андрей Андреевич, прежде всего примите мое восхищение. Вы доказываете, что поэт – звание, и подтверждать его надо не только текстами, но и личным мужеством.
– Тут восхищаться незачем, это норма. После того как держался раненый Пушкин, после героических последних месяцев Пастернака – что добавишь? Я в относительном комфорте, меня не травят, слава Богу, отношения с царем выяснять не надо… Две мучительные вещи – приступы, когда теряешь голос, и почти постоянная боль. Поэту трудно без голоса. Я всегда любил читать, многие вещи рассчитаны на устное исполнение. Это надо произносить, или петь, или молиться вслух – все это вещи голосовые. А боль плоха тем, что не вырабатывается привычка, нельзя приспособиться. Но есть навык, я умею сопротивляться – что-то бормочешь про себя, стихи и тут помогают. И кстати, вот эти вечные упреки в эстрадности, которые сопровождали наше поколение с первых шагов. Они вызывались, конечно, тем, что все эти чтения у памятника Маяковскому, а потом стадионные овации и вечера с конной милицией воспринимались политически, а был ведь у этого один важный человеческий аспект, о котором мало говорят. Шумная слава, все ее ругают, она якобы ужасно вредит, но по крайней мере в одном смысле она хорошо влияет на судьбу: когда на тебя устремлено много глаз, у тебя сильный стимул вести себя по-человечески. Больше шансов не сподличать. Соблазн – в хорошем смысле – сделать красивый жест, совершить приличный поступок: люди же смотрят! И враги тоже смотрят. Поэтому улыбайтесь.
Пример нашего поколения тут довольно убедителен: среди тех, кого действительно знали, за кем следили, – никто не замечен в подлости. Ошибались все. Приличия помнили тоже все.
– Кстати, о «Соблазне» – лучший ваш сборник, по-моему.
– Не знаю, лучший ли, но из всех своих периодов я действительно больше люблю вторую половину семидесятых и, может быть, кое-что из поздних девяностых, из того, что вошло в том собрания, обозначенный «Пять с плюсом». Там уже чистый авангард, без заботы о том, что скажут.
– Спрашивал вас об этом двадцать лет назад и повторю сейчас: не разочаровались ли вы в авангарде? Во-первых, кое-где он выродился в прямое сотрудничество с государством, как у футуристов. А во-вторых – выродился, и я не знаю, продолжится ли…
– Что касается сотрудничества с государством – это изнанка общего футуристического проекта переделки жизни. Искусство не для того выходит на площадь, чтобы показывать себя: оно идет переделывать мир. Это прямое продолжение модерна, нормальная линия – кончился образ художника-алхимика, затворника, началась прямая переделка Вселенной. «Кроиться миру в черепе». Это было и на Западе, не только у нас, и вторая молодость авангарда – шестидесятые, битничество – продолжение той же утопии. А в России это совпало с революцией, отсюда упования на государство, на утопию, – утопия вообще для искусства вещь довольно плодотворная. А наоборот – не очень. Пока человек чувствует, что он все может и будущее принадлежит ему, он менее склонен к подлостям, чем если чувствует себя винтиком. Авангард предъявляет к человеку великие требования. И сейчас скажу то же, что и двадцать лет назад: ничего более живого в искусстве ХХ века не было, из русского и европейского футуризма выросло все великое, что этот век дал. Русская провинция продолжает давать прекрасные молодые имена, потому что футуристична по своей природе. Там без утопии не проживешь. Противопоставление авангарда и традиции, кстати, ложно – по крайней мере в России. Авангард с его максимализмом и есть русская традиция. «Слово о полку Игореве» как будто футуристы писали. Плакаты авангардистов, в том числе богоборца Маяковского – не атеиста ни в каком случае! – восходят к иконе. Авангарднее русского фольклора вообще ничего нет – рэп шестнадцатого века.
«Лучшие умерли рано»
– Но те молодые, которых вы благословляли (с избыточной щедростью, по-моему), они оправдали ваши ожидания?
– Тут избыточной щедрости не бывает: ругать будут без меня. И я не сторонник теории, что ругань полезна. «Когда ругают – везет», есть примета, но это придумано в самоутешение. На самом деле из тебя ногами выбивают легкость и радость, вот и все. Все талантливые поэты, которых я знал, предпочитали перехвалить, чем недохвалить: это касалось и Кирсанова, и Асеева, которых в свое время так же искренне перехваливал Маяковский, а тот начал с того, что его назвал гением Бурлюк. Не бойтесь сказать «гений», бойтесь не разглядеть гения – несостоявшихся великих в России больше, чем мы себе представляем. И мне очень редко приходилось разочаровываться в тех, кого я поддержал, – почти никогда. Страшно только, что именно они – настоящие – чаще платят за предназначение: ранний уход Нины Искренко, Алексея Парщикова, Александра Ткаченко – это как раз доказательства того, что поэт платит дорого. Особенно если преодолевает сопротивление материала.
– А сами вы предполагали дожить до 75?
– Я никогда в жизни всерьез не принимал эту цифру, мне и 70 уже казались нереальными. Но нам повезло в том смысле, что во второй половине пятидесятых над нами будто разверзлись небеса и какой-то луч ударил. Облученные этой энергией, мы оказались крепче, чем сами рассчитывали. Ранняя слава, ранний счастливый шок от вдруг раскрывшихся границ, от огромных аудиторий – это добавляет живучести. В 70-е все это резко потускнело, обернулось депрессиями, запоями, но облучение не смоешь. Я замечал такой же запас жизненных сил в людях, облученных двадцатыми годами: в Алексее Крученых даже после восьмидесяти лет сидел подросток. Марк Шагал. Эренбург. Лиля Брик. Пикассо. Люди таких эпох, если не становятся их жертвами, живут потом до ста, сохраняя ясный ум и крепость.
– Кстати, вы хорошо знали Лилю Брик – в какой степени справедливы упреки, что она не любила Маяковского по-настоящему, использовала его и т.д.?
– Эти упреки исходят главным образом от людей, которые любят Маяковского – или думают, что любят – сильно и ревниво, и чужая любовь им становится невыносима. Они ссорят его с большинством друзей, думая, что, окажись они рядом, любили бы его больше и правильней. Ссорить поэтов – вообще любимое занятие непоэтов, и круг Маяковского распался не в последнюю очередь поэтому… Он ее любил, ее было за что любить, она и в старости производила ослепительное впечатление, и не было никакой старости, потому что она покончила с собой именно из нежелания доживать инвалидом. При этом она мне рассказывала страшные вещи – вроде того, что они с Осей занимались любовью, а Володя плакал на кухне и ломился в дверь, – но думаю, это был эпатаж. Она много раз недвусмысленно написала, что никогда не совмещала любовников, что к началу романа с Маяковским близости с Осей уже не было. Иногда она проверяла собеседника, говоря резкости или притворяясь страшней, чем была. Но, в общем, все эти мечты, чтобы поэт выбирал себе правильную подругу… Маяковский сделал идеальный выбор. Хотя и Татьяна Яковлева ему была вровень.
«Аксенов – взрыв любви»
– После выхода последнего романа Василия Аксенова – «Таинственная страсть» – личная жизнь шестидесятников опять в центре внимания: некоторые обижаются, а как вы? И что там правда?
– Бог мой, ну кто от Аксенова ждет фактов? А в байки Довлатова кто верит? Жанр байки не предполагает достоверности. Довлатов был великолепный рассказчик, иногда анекдотчик, это тоже требует класса. А Василий Аксенов был поэт, крупный, без скидок, проза его – белый, а иногда рифмованный стих, ритм ее поэтический, «Таинственная страсть» не исключение, он всех нас сделал героями эпической поэмы. В «Илиаде» что, много фактографии? Совпадает общий каркас: ахейцы брали Трою. Видно, с какой любовью это все написано, видно, до чего он в том времени был счастлив и как выл, когда оно кончилось, – я во многом там себя узнаю, но поскольку я меньше бывал в Коктебеле и не так часто запивал, близость с друзьями была скорей заочная. Если кому-то плохо или кого-то травят – все перезванивались; если у кого-то удача – списывались; если кто-то не так сказал или написал – можно было напрямую позвонить, но в этом вихре попоек и свиданок я себя не помню, мой постоянный круг был скорее так называемые технари, физики, круг Крымской обсерватории и Дубны, Новосибирска еще… Но история написания «Озы», которую я и сейчас считаю лучшей своей вещью в шестидесятые, – там вполне точно изложена, просто это точность не дословная, не биографическая. Он же не мемуары писал. Это дошедший до нас взрыв любви. Вот как звезда взрывается, ее уже нет, а взрыв виден. Совершенно целебная проза, излечивающая. Какой заряд силы в нем сидел, и сколько еще он мог!
– Упомянутые вами физики куда-то делись, и техническая утопия у них не получилась – а сколько было надежд!
– Как «куда-то»? Из них получилось почти все диссидентское движение. В нем не гуманитарии преобладали. Сахаров – из них. Эти люди получились очень интересно: вообще ведь диссидент чаще всего получается из элиты, из слоя верхнего, избалованного, где у него есть возможность всему научиться, где царят идеальные отношения, где нет иссушающей заботы о куске: всех этих принцев сталинской эпохи в тридцать седьмом осиротили, и получилось поколение диссидентов. А были еще советские принцы пятидесятых, ядерщики и прочие оборонщики, которые купались в государственной любви, которые были элитой в греческом смысле – культуру знали, за поэзией следили, жили пусть в закрытых, но теплицах… И потом они вдруг поняли, что служат дьяволу. Так и сформировалось это движение – физикам же больше присуща умственная дисциплина, гуманитарий разбросан, «пугливое воображенье»… Сахаров потому и стал его вождем, что – физик, другая организация ума и другая степень надежности. Потом по-разному у всех сложилось, кто-то уехал, кто-то разочаровался, но в общем я не видел в жизни лучшей среды.
– Кстати, кто такая Светлана Попова, памяти которой посвящен «Лед-69»?
– Студентка-биолог, я ее не знал никогда. Мне ее мать написала, что она погибла в турпоходе, что любила мои стихи… Я ее представляю только по фотографии. Мне рассказали, что она, когда они попали в пургу, читала что-то мое, чтобы подбодрить остальных.
– Вы действительно стоите несколько особняком среди шестидесятников – о ваших громких романах известно мало, в попойках вы не замечены… Это свойство темперамента или позиция такая – дальше от скандалов?
– Дальше от скандалов у меня никогда не получалось, хотя я дорого дал бы, чтобы их не было. Они привлекают внимание к автору, но отвлекают – от стихов. Сказать, чтобы я скрывал личную жизнь… в стихах было столько откровенного, что мне-то казалось – я и так слишком открыт. Мы в самом деле жили на виду. Что касается публичных выяснений отношений или тем более запоев – здесь я, пожалуй, и рад выделяться: мне с избытком хватало скандалов с властями или критиками. Надо же чем-то выделяться в череде современников – я здесь за то, чтобы выделяться относительной смиренностью в быту. Хотя по меркам семидесятых годов иностранный пиджак уже был повод для скандала, а шейный платок – безумный вызов. Кого сейчас этим удивишь? Даже самые отъявленные ньюсмейкеры шестидесятых по сегодняшним меркам – школьники.
– Воображаю, как вы относитесь к светским персонажам нулевых.
– Очень хорошо. Во всяком случае, к некоторым. У нас так устроено общество, что в центре внимания – чаще всего недоброжелательного – оказывается яркость. А потом начинается травля, и эта травля формирует, между прочим, не худшие характеры. Нет, я этих ребят люблю. Советская власть любила учить скромности. А между тем об истинной скромности она понятия не имела. Она называла скромностью тихушничество – способ поведения карьеристов, подлецов, тихонь. Я не тихушник и другим не советую.
Хорошие дома на плохой улице
– Сейчас о советской власти опять заспорили, потому что ни одна оценка, видимо, не может в России считаться окончательной. Вы с каким чувством думаете о советском проекте?
– А тут однозначной оценки быть не может, потому что и советская власть была неоднородна. Для меня самый наглядный символ советских лет – это дом Пастернака на улице Павленко в Переделкино. Понимаете, улица была – Павленко, соцреалиста и, в общем, сталинского холуя, со всеми приступами сомнения и раскаяния и даже с проблесками одаренности. Но дом на ней стоял – Пастернака, и улица эта тем будет памятна. На огромной улице советского проекта стоят дома великих людей, которым выпало внутри этого проекта родиться. Они с ним взаимодействовали, они в него привносили свое, и если дома были увешаны лозунгами из Маяковского, то вместе с довольно плоским смыслом они в самом ритме транслировали его бунт. Я не буду зачеркивать большую часть своей жизни. Я при советской власти не каялся, когда у меня находили антисоветчину, и за советчину каяться не намерен. Меня ни та, ни другая цензура не устраивает. Видеть в русском ХХ веке один ад или одну утопию – занятие пошлое. Когда тебя спросят, что ты сделал, – ссылок на время не примут. Здесь Родос, здесь прыгай.
– Почему все-таки выдохлась оттепель? Ее прикрыли или она сама закончилась по внутренним причинам?
– Я думаю, ее бы никто не смог прикрыть, если бы она развивалась. Но она именно выдохлась, и это понимают немногие – было видно тогда, изнутри. Тогда, насколько помню, Аннинский об этом написал. Антисталинский посыл закончился довольно рано – все уже было сказано на ХХ съезде. Надо было идти дальше. Чтобы дальше идти, нужно было опираться на что-то более серьезное, чем социализм с человеческим лицом, – или на очень сильный, совершенно бесстрашный индивидуализм, или на религию. У меня, как почти у всех, был серьезный кризис взросления, но он случился раньше официального конца оттепели, задолго до таких ее громких вех, как процесс Синявского и Даниэля или танки в Праге. Думаю, это был год шестьдесят четвертый. Выход был – в религиозную традицию, в литургические интонации, но это не столько моя заслуга, сколько генетическая память, которая подсказала их. Вознесенские – священнический род. Мне кажется, я после оттепели писал интересней. Хотя в «Мозаике» особенно стыдиться нечего.
– Предчувствия катаклизмов у вас сейчас нет?
– Сейчас – нет, есть предчувствие, что меняться будет мало что. Сейчас время внутренних перемен. Человек – это не то, что сделало из него время, а что сделал из себя он сам.
|