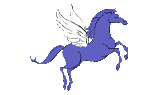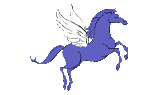ПОЭТ И АФРОДИТА
Фирменный малиновый поезд в Москву плавно причалил к перрону, и пестрая оживленная толпа уверенных в себе столичных высыпала на плитки, деловито расхаживая в шортах и майках меж местных торговок в тапочках и галошах, продающих огурцы, горячие пирожки, пиво и мороженое.
Когда ушел московский, вновь стало скучно, безлюдно, ветрено и пыльно, только у электрички, отправляющейся через десять минут, еще курили. Никто не подходил ни к киоскам, ни к торговкам – стояли поодиночке, сплевывая, разглядывая новый розовый вокзал узловой станции, яркие иностранные контейнеры, иномарки в синих новых вагонах с сеткой.
Наконец, электричка тронулась - и вновь потекли мимо уже скошенные желтые поля, разноцветные огни кустов, иногда хвойные угрюмые непролазные чащобы, речки, где вагон грохотал по мостам, а вдали уходили вверх ели, рядами по холмам.
Через полчаса выскочил на маленькой станции Севрялово, поправил старую черную сумку – и вразвалочку, прихрамывая, побрел через поле по тропке к своей избе на опушке, недалеко от узкого безлюдного шоссе в город.
Дом сьехал влево, шифер затянуло малахитовым и коричневым мхом, через бледно-синий от времени штакетник палисадника светили золотые шары, свешиваясь на улицу деревни, а у ворот сидела, задумавшись, рыжая курица, вырыв себе ямку, кося на мир желтым янтарем глаза.
Сидя на рухлом крылечке, отдыхая после дороги, хотелось – также ездить в Москву на этом сверкающем малиновом экспрессе, где проводницы, прежде чем пропустить пассажиров, всегда вытирают белые поручни мягкой тряпкой.
Хотелось также как и те, кого видел сегодня, ходить в белых брюках, сидеть в вагоне-ресторане, смотреть себе свысока на деревушки и лесочки, совершенно не думая о тех, кто там живет, есть из железнодорожного судка какой-нибудь вкусный рассольник с оливками, горячий бефстроганов с салатиком, лениво вытирая губы салфеткой, запивать «Спрайтом» - и даже не ломать голову над тем, кто же обитает вон в том, тоже скосившемся набок, доме, обитым вагонкой с давно осыпавшейся желтой краской.
Потом – сидеть себе в купе, равнодушно и спокойно пробегая взглядом по фото Испании, глядя на белый неестественный песок и еще более неестественно бирюзово-голубое море…
За вылинявшей ситцевой занавеской в избе тукал китайский будильник, в жестяном тазу лежала грязная картошка, а из ведра под рукомойником уже воняло – три дня никого.
По треснувшему стеклу оконца ползли две мухи, коричневый пластилин у рамы уже покрылся кое-где паутиной.
Яркий сентябрь совсем похож на июнь, но синее небо без единого облачка уже белеет к горизонту, светит так, как оно светит и в Средней Азии – говоря о близкой зиме.
В огороде - целый день под снованьем сотен птиц, собирающихся на юг, думалося о Москве, о Петербурге, куда теперь на провинциальные деньги даже не доехать.
Сосед по правой руке долго, опершись о горбыль забора, рассказывал, как два дня тому назад он отходил от недельной пьянки, потом провели трех коров, оставшихся от некогда огромного деревенского стада, потом летел вверху самолет, опять напоминая о манящих больших городах, об острове Керкира.
Среди вялой ботвы находилась изредка огромная картофелина, чему особенно радовалося.
Еще – занесли триста рублей за три дня в июне. Сломался навозоуборщик.
Затем долго смотрелося, вспоминая об СССР, на хромированный советский чайник, отражающий: закат, сломанный телевизор « Акай», черемуху в трех окнах стены, отвалившиеся обои в углу, ветхую электропроводку на белых фарфоровых рюмочках по стенам, просевшую доску пола, драную кошку, все никак не хотящую сдохнуть, и жену, сидящую на пружинной кровати, сетующую на то, что опять купили поросенка, который, скотина и гад, …………………….., за три месяца так ни хрена и не вырос.
Зато теперь ярко – большая синяя новая тетрадь для стихов сама по себе обновляет весь старый и радикулитный дом (построили еще в 1955 году), тут доски пола такие толстые, каких сейчас никто не делает, да не по карману будет здешним. Не сталинские времена и после - когда по всей стране все строили, даже в самой глухоманной деревушке! Ах, нищета, воровство по всей стране!
Уже после заката ходилося на железку, сиделось в старом току с разбитыми шиферными стенами.
Три сигареты из пачки «Примы» наполовину просыпались.
В одном доме виделось, как муж и жена затаскивают на веранду целую молочную флягу браги из бани – вот счастливые, их снабжает богатейший сын из города, директор предприятия, и у них во всей деревне на 300 дворов есть: «Рено», «Беларусь», телега к нему, бензин без счета, новые «Жигули», новая «Газель», а в огороде растет какая-то неведомая заграничная чертовщина. Есть даже три страуса в кирпичном сарае с подогревом, огромный вольер, не считая и прочего – скотины, породистой, огромной. Три их хряка гуляют безбоязненно по деревне как и – сам себе президент.
Вечером же слушать «Радио Ирана». Руководители не воруют. Цивилизация. Культура.
Сейчас Каспий омывает босые ножки, белые камешки, когда она смотрит на северо-восток. Пышные акации и розы, омытые дождем, пахнут повсюду по склонам. Временами горячий ветер из Туркмении шевелит ее волосы, а ледники так нестерпимо блещут, и уже вечерние светлячки готовятся к полету, и летит высоко самолетик - в Уфу.
Ногам приятно от соленой волны, к ночи из глубин поднимаются былые воды и былые сны о прошлом величии неуютного мира.
Хочется куда-то на Урал, на север: следить и слушать, замирая, как цветет брусника и сосны перешептываются, цепляясь корнями за камни, боясь свергнуться вниз.
Там – есть деревянные дома, и у каждого дома лежат целые тонны настоящего живого дерева!
Только в полночь отпустило это все, написалось аж три стихотворения. Их, естественно, никто и нигде не опубликует, Никому не до стихов – чистоган, нажива, гиль, спурт, осмотреться обществу некогда.
Во сне же была большая радость: будто живет в каком-то белом огромном и малонаселенном городе, где за полчаса мимо медленно едет всего-то тридцать легковушек. А живет на восьмом этаже, стены панелей прозрачно-голубые, и за три года никто не поставил на стене в подьезде ни единой царапинки!
Плыли на белом теплоходе по большим озерам, пили настоящий индийский красно-терпкий чай из богатейшего сервиза с мелкими золотыми цветочками. Какие только в музеях.
Смотрели в глубине больших глазастых рыб – не озерных, а морских, и ели кальмаров с травами и соусом, готовил на огромной сковороде то ли испанец, то ли мексиканец.
На столике, покрытом советским серым вагонным пластиком, кто-то нацарапал « Сережа + Валя = ?»
А на заднем борту красными буквами - «Богатырь».
По озерам, не думая о том, что в понедельник опять идти на работу.
Вон идет колесник «Рабочий», на трех палубах гуляют, поют, пьют пиво и лимонад из бутылок, показывая на нас. Кто-то ловко играет на баяне «Полонез», бросают в пенный след венок из ромашек, загадывая вновь попасть сюда. Сосед читает юной свердловчанке Джалиля.
Фронтовики в соломенных шляпах одобрительно слушают, кивая. На Волховском фронте.
Гулялося с зеленоглазой, круглолицей, полненькой, фигуристой подругой в синем с белыми горошками платье, очень приятном на ощупь, по песку озер, у стогов, ползущих вверх к линии электропередачи, под звездами, похожими на елочные шары в детстве, а попали вдруг в спящую мирно деревню, где повсюду под огромными ивами желтели там и сям новые сосновые пахучие срубы. Пошли под сонными проводами на сеновал с нею, бабка по пути все рассказывала, как она была в прислугах на Таганке у богатых евреев в 1913 году.
На сеновале мохнатые важные звезды прыгали по ее ресницам, на брезенте елозили в темноте встревоженные огромные кузнечики, щелкая и попадая в доски. В квадрате окна меж тем по шоссе неслись в город сияющие в ночи ЗИМ-ы, «Победы» и ЗИС-ы – на «Иоланту», в ресторан «Ракета», в кафе «Молодежное».
Она долго искала потом белье, надела платье прямо на голое тело, пахучее, горячее. Спускаяясь вниз по лестнице, совершенно не стеснялась того, что юбка платья порой высоко задирается, обнажая меж полных бедер темнеющий густой треугольник.
На теплоходе пел Утесов, когда опять приставали к огромнейшему городскому речному вокзалу с белыми колоннами и львами. Она цокала по асфальту в новом кружевном белье, просвечивающем на солнце сквозь светлое платье, мимо густых бархаток, собачек и гвоздик газонов у фонтана.
Помнились наяву: ее мягкие икры, слишком яркая помада, белая сумочка с большой желтой пряжкой, перчатки, тоже светлые, под цвет платья, до локтя, из паутинной заграничной материи, ее синий нарядный домик, похожий на матрешку, в конце тихой улочки у стен розовой залы дореволюционного дворянского собрания. Даже маленький шрамик выше левого колена.
Высокие каблучки зеленых туфель увязали в песке, когда подошли к крыльцу. Большие нарядные бабочки, как куколки, смотрели на нее с цветов, обрызганных дождем, и величественные белые облака превращались над городом в снеговые семитысячники, грядой тянувшиеся к самой столице той страны.
Потом – провожали поезд с синим паровозом, держал в одной руке ее руку, в другой – саквояж ее дедушки-дворянина, говорившего на французском о том, что молодежи непременно нужно знать не только французский, но и местный язык.
Полная продавщица с деревенским лицом продавала мороженое за три копейки.
Тем невыносимей стало просыпаться в этой жизни, и опять видеть инобытие – трезвую, разумную, деловую, кипящую и копящую только деньги – и только одни лишь деньги, жизнь.
Сюда, в Севрялово, они, эти новые деньги, конечно, не доходили – большую часть пожирало то, что по привычке так и прозывается у всех «Москвой». А оставшееся малое богатство из Москвы проедало и прокручивало в местной столице, проматывало, пускало по ветру здешнее алчное и дикое с высшим образованием чиновничество.
И потому по утрам за заборами дуло ветром безлюдья, разрухи, битых кирпичей, забитых лопухами, вьюнком и полынью. Новое время - у всеми забытой и покинутой страны.
Агафья Лыкова, соседка, вручную докапывала картошку, на огороде иногда смотря из-под руки сквозь развалины на яркие московские поезда, гремящие и свистящие вдаль, на огромной скорости, никогда не останавливающиеся в том, что некогда называлось «Россией».
И равнодушно бежали по этим пустым и продутым долам слепые глаза пассажиров, где отражалась только столица,- у стоящих на ковровых дорожках в сияющих чистотой вагонах, пережевывающих колбасу и чипсы. Уши же едущих всегда были заткнуты московской попсой и японскими проводками.
А дальше, там, за густыми лесами, за холмами, как-то жили и обитали те, кому современность уже не оставила никаких шансов – что можно сделать, к чему можно стремиться там, где забыты деньги?
Далеко от Москвы, далеко-далеко от скрипящих смеющихся пачек евро, от веселых пляшущих золотых слитков с клеймом, от миллионных окладов и стотысячных покупок, от супермаркетов и бутиков, от рестранов-суши и гламурных силиконовых девиц, похожих на мальчиков, от этого игралища голубых законодателей целей нового человечества, от распахнутых зевов иномарок с горой ярких покупок внутри – немногие тысячи всеми забытых копали картошку, глядя в великую и непреодолимую Пустоту, пожирающую последние годы этого человечества.
Лохматый старый пес на рубероидной крыше гнилого сарая щурился на слишком уж яркое и не к месту веселое земное солнце сентября, распространяющее повсюду запах гнили, тлена, прели, ухода, осени, великой пустыни забвенья, шевелящей море человеческих голов чертополоха, подступающего уже к самым рельсам пути на Москву.
Москва же оставляла всему здесь только – мусор вагонов.
Фантики, обертки, куски журналов.
По которым эти нищие деревушки составляли свое мнение об остальном человечестве, как бы давно улетевшем на другую планету.
Но мертвые глаза журнальных див выдавали всем, что это человечество – давно не существующее, прошлое, что все эти яркие приманки давно ушедшего богатства – и есть то самое ярмо смерти, от которого всегда отшатывались прежде жившие здесь поколения. Их могилы тут и там зарастали травой и березами – потомки из городов никогда не навещали своих мертвых.
Он взял грабли и стал собирать картофельную ботву, чиркнул трехрублевой китайской зажигалкой, поджигая обрывки журналов, выкинутых из московского лакового вагона.
Пламя весело загудело, охотно пожирая и Москву, и Кипр, и бирюзовую воду Багам, и яхты в ней, и красоток в бикини, и драгоценности поп-звезд, и похвальбу московских правителей, и цены на путевки.
Белый дым стлался по сорнякам, когда скинув резиновые сапоги, он уже сидел на речушке под ивой с удочкой. Только три маленьких карася – но как скрасили они скудный ужин на убитой советской клеенке!
Всю ночь на чердаке бессонно думалось о том, что вдали на юге за тем холмом: непознаваемый Тегеран, где так странно говорили по радио.
Странный город! До чего странный город!
До чего необычны люди в нем, кого не купить уже на клипы и бренды – как все остальное человечество. Фальшивый блеск последней цивилизации!
Что останется на Земле после этой Атлантиды?
Окно сумрачно темнело зловещим на север. Сырая, зябкая, черная ночь давила редкие огоньки соседней деревни меж холмов. Странными и неуместными казались в этой довременной мгле огни простых дешевых электролампочек на проводе – но они в такие ночи заменяли звезды.
Он сварил макароны, нарезал прошлогоднее сало, растопил на сковородке, и пока жарились макароны,
сел на табурет, стал смотреть на цепь огней, бегущую к столице. Там, в вагонах, уже давно спали, наевшись и напившись.
И только одна дева ночи стояла на ковровой дорожке, прижавшись лбом к холодному стеклу, и смотрела. Смотрела на одинокий потерявшийся огонек, под которым сидел он, поджидая, пока поджарятся макароны.
Она ехала в Норвегию из Ирана, домой, где ее, впрочем, никто не ждал.
Держа в руке маленький синий томик русских стихов, она все никак не могла оторвать взгляда от удаляющегося в небытие желтого огонька, скрашивающего всю внешнюю тьму этого современного мира.
Она мечтала о прошлом, но – ином, совсем другом, чем удалось ей видеть - в ее несуразной и нелепой жизни.
Он вздрогнул, когда шум поезда затих, и тогда, взяв с полки синюю книгу, стал читать Анненского, внимательно разглядывая замысловатые старинные виньетки.
Так редко, так редко находишь сочувственный взгляд в этом холодном и безлюдном свете, где только изредка электровоз выхватит из тьмы край склона, цепь сосен, кусты – как на дне океана.
На темной веранде он напрасно искал звезд – густые облака скрыли небесный свет, только далеко на востоке зеленел светлячок семафора.
Она же до утра смотрела туда, назад, вспоминая одинокий убогий желтый огонек в русской мгле.
Но – вокруг сияли уже большие города, близилась Москва, а в Шереметьево вился такой рой ос, что долго стало некогда отдаваться теплому и необычному чувству.
Скоро будет зима, большие снега завалят деревню, в саду редкий лист будет трепетать на морозе, жалея о том, что он один изо всех остальных не умер, но зато ледяные райские кристаллы расцветут вокруг, слепя на зимнем солнце, а по ночам одинокий волк будет выть на луну в морозной дымке. И настанет великая древнерусская глушь с деревушками, закрытыми от остального мира великими холодами.
А доживем ли до весны, бог весть!
Сумрачным утром пока по росе хорошо идти босиком, держа в одной руке ботинки, а другой сумку с трехлитровой банкой молока, следя, как холодные туманы крадутся внизу по этой Земле. Потом еще лучше найти по углам сарая несколько свежих яиц, затем – собрав горсть черной рябины, стоять на холме, глядя на восток, юг, север и запад, зная, что все эти пустоты – твои, не сейчас, а в грядущем.
Нужно будет непременно не забыть стянуть панцирную сетку кровати проволокой, какую видел у старой покрышки «Беларуся».
___________________________________________________________________________________________________________________
|